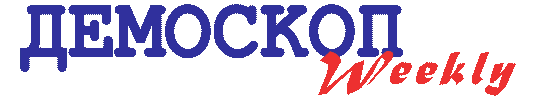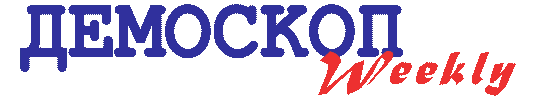|
|
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Советская власть и высшая школа [1]
Александр Кулишер
Среди других сторон советской политики область народного
образования всегда занимала особое место. Прежде всего, это – рекламная
сторона советской деятельности. На самом деле, нет области, где
государственная реклама была бы так легка и где разоблачение ее
было так трудно. В области экономической политики, можно придумывать
грандиозные начинания, можно давать широкие обещания будущих благ,
можно выкидывать флаг бьющих на воображение лозунгов, можно иногда
чуть-чуть подтасовывать статистические данные. Но все это заключено
в определенные границы. В этой области факты слишком очевидны. Население
голодает, фабрики стоят и т.п., –этому можно придумывать разным
объяснения, можно сваливать вину на Антанту или белогвардейцев,
можно оправдываться, но нельзя скрыть. В области администрации суда,
дело еще проще и яснее. Максимум, что можно сделать, – это назвать
суд «пролетарским», охранку – чрезвычайной комиссией, но расстрел
всегда останется расстрелом. Напротив, в области просвещения дело
значительно сложнее. Результаты той или иной политики могут стать
хоть сколько-нибудь осязательными лишь по прошествии многих лет,
лишь в следующем поколении. И, вообще, возможность бесспорного количественного
измерения, статистического обследования и т.п. здесь, по самому
существу дела, поставлена в весьма узкие рамки, – тем более узкие,
чем выше мы поднимаемся в иерархии образования. Количество грамотных,
количество лиц, оканчивающих элементарную школу, список предметов
в ней преподаваемых, – это еще может дать некоторые бесспорные данные
о постановке дела элементарного образования в данной стране. Но
число лиц, числящихся «студентами» в учреждении, именуемом «университетом»,
названия тех предметов, по которым кем-то будут читаться лекции,
– все это не даст абсолютно никакого представления, о положении
высшего образования. Тут все не в количестве, а в качестве: дело
не в том, сколько слушателей, а в том, как и при каких условиях
они занимаются; не в том, что должно читаться, а в том кто и как
читает. В этой области всего труднее настоящее творчество, настоящее
прокладывание новых путей. Но зато всего легче строить потемкинские
деревни, всего легче орудовать трескучей фразой и забористыми названиями.
Здесь всего труднее и опаснее экспериментировать; зато всего легче
придумывать эксперименты.
Но было бы не справедливо полагать,
что советское «строительство» в области народного просвещения, вообще,
и высшей школы в частности, – определяется исключительно рекламными
целями. Напротив, эта область, – пожалуй, единственная в советской
политике, не представляющая собою царства абсолютной лжи. Здесь
и только здесь не было той повелительной силы внешних обстоятельств
и собственных шкурных интересов правящей группы, которая заставляла
советскую власть в других областях делать обратное тому, о чем она
говорила: кормить армию и комиссаров под названием коммунистического
распределения, строить диктатуру паразитической олигархии под названием
диктатуры трудящихся. Наоборот, цель осуществления высшего и благороднейшего
лозунга социализма: сделать духовную культуру, – и всю культуру,
– достоянием всей массы народной, – такая цель до известной степени
действительно была в советской политике.
Советская власть с некоторым особым
удовольствием обращалась к этой области. Учреждением «рабоче-крестьянских
университетов» она «замаливала» перед идеей социализма продовольственные
экспедиции и подвиги чрезвычайки, – как средневековые католики замаливали
перед Богом войны и казни строительством монастырей. Многие из лучших
элементов коммунистической партии спасались в оазисе Луначарского
от крови и грязи общей советской политики. И в этой «самой нейтральной»
области работа «привлекаемых к содействию» «спецов» была всего более
искренней, всего более одухотворенной. Здесь легче всего убедить
себя, что «я служу не большевикам, а русской культуре» и «стараюсь
использовать возможности продуктивной работы». А эти «возможности»
до известной степени действительно были. В длинном списке грехов
советской власти не было до последнего времени одного: скупости.
Живя денежным станком, правительство швыряло деньги на что угодно:
и на всевозможные «футуристические» нелепости. и на «реформы», имеющие
единственной целью увеличение штатов, и на действительные культурные
начинания. Объективным результатом всего этого [стало] чрезвычайное
умножение учебных заведений, – в том числе именуемых «высшими».
На деле подавляющее большинство этих губернских и уездных «университетов»,
рабоче-крестьянских факультетов и т.п., конечно, не были университетами
в собственном смысле слова; они не могли быть ими и по уровню слушателей,
нуждающихся еще в усвоении знаний, даваемых средней, а то и низшей
школой, – не могли быть ими и по отсутствию элементарных технических
приспособлений, лабораторий и т.п., наконец, и по составу преподавателей,
которых приходилось брать с бору и с сосенки, изредка «припрягая»
какого-нибудь выписанного на гастроли за усиленный паек или соблазненного
«собственным огородом» «всамделишнего» профессора. Но рекламой было
название этих университетов, выраставших, как грибы, по всем углам
и закоулкам безграмотной страны. Сами по себе это были учреждения,
гораздо более скромного, но полезного типа, – служащие, конечно,
не для подлинной научной работы, [а] для распространения некоторых
научных знаний в популярной форме: то, что обычно именуется общеобразовательными
курсами или «народными университетами». В этом отношении советские
органы, несомненно, проявляли широкую инициативу: достаточно упомянуть
о прямо невероятном количестве лекций, читаемых в советской России;
в чисто количественном отношении едва ли есть государство, которое
могло би оспаривать у нее первенство. Лекции и курсы для красноармейцев
в частях, на фронте; лекции для рабочих, для работниц, для служащих
разных ведомств: лекции по «истории социализма», по «истории всех
революций», – но и по политической экономии, и о теории Дарвина,
и об авиации, и о холере. Все это крайне бессистемно, проникнуто
погоней за окладами и пайками, «уклонением» от воинской и трудовой
повинности, приводит к нелепой конкуренции различных ведомств и
начальствующих лиц между собою, иногда к какой-то охоте за лекторами,
которых со всех сторон соблазняют пайками и со всех сторон пугают
«принудительной мобилизацией». Но все же при благоприятных общих
условиях нельзя было бы отрицать культурного значения целого потока
научного или хотя бы полунаучного слова, вливаемого в широкие массы.
Реформа высшего образования в собственном
смысле началась с декрета о свободном доступе в число студентов
всех лиц старше шестнадцати лет и об отмене всех экзаменов[2].
Жестокая критика и град насмешек, вызванных этой нелепой мерой в
значительной степени беспредметны.
Декрет этот, несомненно, был одним
из наиболее чистых продуктов «большевизма» как идеологии. Но он
и разделил судьбу большинства таких «идейных» мероприятий, т.е.
остался на бумаге. Чуть ли не через месяц после его издания делегация
профессоров в Петрограде явилась к одному из власть имущих Наркомпроса[3]
с недоуменным вопросом, как им быть с неподготовленными людьми,
которые могут только мешать на практических занятиях в лабораториях
и т.п. Ответ быть дан неожиданный, но зато вполне вразумительный:
«Да гоните их в шею!» Постепенно повсюду были восстановлены под
разными предлогами требования образовательного ценза для действительного
поступления в университет и экзамены всякого рода, – под плаванием
«коллоквиумов». Принцип «свободной школы» свелся, в конце концов,
к праву посторонних лиц присутствовать на лекциях, праву, которое
существует и в большинстве западноевропейских университетов. Напротив,
контроль над занятиями студентов стал гораздо более строгим (см.
ниже). Единственное, что осталось от первоначальной идеи «пролетарского
университета», – это отмена платы за право учения и введение «социального
обеспечения» для студентов, – меры, которые несомненно могли бы
значительно содействовать демократизации высшего образования.
Могли бы... если бы не те общие условия
советского режима, благодаря которым дело идет, фактически, не о
той или иной организации научного преподавания, и не о той или иной
систем популяризации научных знаний, – а о гибели науки и высшей
основы, как таковых. Какая тут «реформа университета», когда нет
самих аудиторий, ибо здание университета, (как это уже третью зиму
происходит с Петроградским университетом) заморожено за отсутствием
топлива. Какая научная работа, если холод быстро и окончательно
«ликвидирует лабораторию»? Но и две-три аудитории, спасенные где-нибудь
во флигелях, пустуют. Какое значение имеет вопрос о более или менее
широком праве доступа в университет? Студентов просто нет и не может
быть. Кто в состоянии учиться в городах, где минимальные средства
существования можно добыть лишь службой, – вернее сочетанием «служб»,
– отнимающим целый день. «Социальное обеспечение», по большей части,
было ничтожным. И недостаток продовольственных ресурсов заставлял
ограничивать число пайков. — В результате, вместо «свободной школы»
получилось нечто прямо противоположное. Высшее образование стало
особой привилегией, доступной немногим. И постепенно, по мере развития
сословного начала в советском социальном и государственном строе,
– и эта привилегия получила определенно-сословный характер. Она
представляется в первую очередь новому дворянству: членам коммунистической
партии и их детям; далее, в случае остающихся свободных мест, семействам
членов профессиональных союзов, советских служащих и т.д. (такие
правила были официально опубликованы для приема в Одесский университет
в 1920 году). Бесправным «податным классам»: крестьянам и городской
буржуазии доступ к науке закрыт так же или еще больше, чем некогда
в старом крепостническом государстве. Это положение вещей приводит
и в других отношениях к возвращению к старым, давно пережитым явлениям
в жизни и организации высшей школы. Культурная задача высшего образования
снова вытесняется старой точкой зрения особой «казенной надобности»,
ради которой выделяется небольшая группа, содержимая на казенный
счет и обучаемая «полезным» государству наукам. После десятков лет
борьбы за автономию высшей школы, за освобождение студенчества от
полицейских стеснений и придирок произошло возвращение к казарменной
дисциплине, неслыханной со времен Николая I. Посещение студентами
лекций, выполнение ими обязательных занятий и, само-собой разумеется,
их политическая благонадежность, – все это строжайшим образом контролируется
коммунистическими «тройками», заменившими упраздненные за «контрреволюционность»
выборные советы старост. Без идиотского штемпеля: «активен», поставленного
такой тройкой на матрикул студента[4],
– он, лишается и «обеспечения», и отсрочки от воинской повинности.
Само собой разумеется, какой дух вносится этим в занятия студентов,
насколько нравственно-невыносимым становится положение преподавателей,
осаждаемых мольбами о выдаче удостоверений, необходимых для получения
этого штемпеля. В одном отношении, впрочем, советский полицейский
режим в высшей школе проявил значительную оригинальность по сравнению
с заветами самодержавия. Вместо педелей[5]
и инспекторов, с которыми в свое время так ожесточенно боролось
студенчество и с которыми удалось, наконец, покончить в 1905 году,
– на сцену явились организации студентов-коммунистов, взявшие на
себя роль полицейских надзирателей над своими товарищами: явление,
едва ли мыслимое в старом студенчестве.
Этот же характер, который неизбежно
принимает высшее образование в советской России, выражается и в
постепенном преобладании технически-прикладного момента в организации
высшей школы. Медицинский факультет, непосредственно необходимый
для армии, всегда пользовался особым попечением, снабжался «красноармейскими
пайками» и т.п. По мере обострения вопроса о «восстановлении промышленности»,
разные специальные высшие школы также стали пользоваться привилегиями
естественно привлекая и слушателей, и преподавателей. Дальше всего
пошел в этом направлении украинский Наркомпрос: в Киеве университет
был разбит на ряд институтов специального назначения: технический,
коммерческий, внешней торговли; остов университета сохранился лишь
в виде «высшего института народного образования» со специальной
целью подготовки учителей; такова единственная функция, оставленная
наукам духа. Эти науки, вообще, естественно оказались в загоне,
как ненужные и к тому же подозрительные по «белогвардейщине». Особенным
«bete noire»[6] был юридический
факультет. «Пролетариат вырвет с корнем самую науку», –возглашала
советская печать. На самом деле, природа советского режима органически
враждебна духу права. Настала «великая реформа», правда, основательно
«саботированная», – не столько по злой воле профессоров, сколько
вследствие скудости творческих способностей советских деятелей,
проявивших и в данном случае оригинальность только в изобретении
новых названий. Юридический и филологический факультеты обратились
в «факультеты общественных наук», и в «юридико-политическом отделении»
было положено много труда на изобретение таких названий предметов,
в которых не было бы жупела, – слова: «право». Гражданское право
стало «учением об основных формах и видах гражданского оборота»
и т.п. Этим дело и ограничилось. А вскоре ветер подул в другую сторону.
В связи с новой экономической политикой было обращено внимание на
ту клоаку невежества, произвола и взяточничества, которую представляет
собой советский суд. Юриспруденция оказалась тоже «полезной», –
хотя и опасной наукой. И ныне она постепенно восстанавливается в
своих правах, хотя и под строгим контролем.
Таким образом, в советской высшей школе,
по существу, шла борьба двух тенденций. Первая – идейные «экспериментирования»
Наркомпроса под лозунгом приобщения массы к науке, – тенденция,
выразившаяся в неудачном декрете о «свободной высшей школе» и давшая
некоторый объективный плод в развитии популярно-научных курсов.
Другая тенденция – несознаваемая самими советскими деятелями, но
неизбежно создаваемая общими экономическими и политическими условиями
советского режима, – вела в прямо обратную сторону: к сокращению
высшего образования и к торжеству узкой казенно-университетской
точки зрения в его организации. Победить неизбежно должна была вторая.
Так и случилось. Толчок в этом отношении был дан «новым курсом».
Принцип «хозяйственного расчета» положил быстрый конец просветительным
затеям. Они были самой легкой жертвой предпринятого советским правительством
«мамаева похода» с целью сокращения расходов. Десятками закрываются
учебные заведения, сокращаются пайки студентам, библиотеки и лаборатории
идут с молотка. Спасающей свою шкуру советской власти не до культуры.
Но, помимо этого, над наукой и высшим
образованием в советской России тяготеет неумолимый рок. Все вышеупомянутые
экономические и политические условия, затрудняющие работу высших
учебных заведений, отступают на задний план по сравнению с одним
фактором, поражающим в самое сердце возможность какой бы то ни было
научной деятельности вообще. Этот фактор – смерть книги, смерть
закрепленного знания. Широкое развитие всякого рода лекций, о котором
упомянуто выше, имеет эту обратную сторону. Потребность в этих лекциях
отчасти вызывается невозможностью приобрести знания нормальным путем
чтения. Но это означает, что собственно научное преподавание в современном
смысле становится невозможным. На лектора возлагается задача – не
открыть слушателям путь к науке, а заменить собою эту науку. И здесь
возвращение к примитиву: к тем временам, когда единственными способами
передачи знаний из поколения в поколение были устные традиции и
записки отдельных любознательных лиц, собиравшихся у ног немногих
«мудрецов».
И хуже всего положение самих этих «учителей»,
живых обломков разрушенной культуры. Поистине тут последний круг
ада. Дело не в материальных условиях; конечно, они ужасны. Мне не
забыть заседания Совета Петроградского университета в январе 1920
года, когда ректор сообщил собранию дрожащих от холода людей о десяти
профессорах и преподавателях, умерших в одну неделю от истощения
и испанки[7]. Но в этом отношении
участь профессоров не отличается от общей судьбы российских городских
обывателей. И нельзя отрицать, что советская власть, в виду накопления
фактов этого рода, приняла энергичные меры к «улучшению быта ученых»,
– меры, доступные ей по ее средствам и по культурному уровню советских
правителей. Комиссия Горького, «Дом ученых», академический паек.
Некоторые «заслуженные научные работники» получили даже двойное
количество «калорий». Правда, все это и само по себе скудно, и выдается
в «неполном размере», и периодически урезывается, как только на
советскую власть нападает припадок бережливости: вроде декрета 8-го
февраля 1921 г.[8], поручившего
«комиссии по питанию рабочих» пересмотреть списки получателей академического
пайка, с тем, чтобы сохранить лишь «действительно необходимых для
республики специалистов». Все же советская власть «делает, что может»,
чтобы «спасти науку». Неудивительно, что она удивляется неблагонадежности
ученых. Трудно привести более характерное для советской психологии
изречение, чем вопрос, заданный профессору, приведенному в Ч. К.:
«Не понимаю, чего вам еще нужно от советской власти. Ведь вы получаете
целый фунт шоколада в месяц!».
В самом деле чего еще нужно? Сознание,
что плоды работы, – даже если есть физическая и моральная возможность
ее, останутся навсегда погребенными, что никогда не удастся представить
их на суд товарищей по науке, что вспыхивающая мысль обречена на
смерть, что нет и не может быть учеников и продолжателей. Сознание,
что порвана связь с мировой научной мыслью, невозможность приобщиться
к работе человечества, продолжающейся где-то там, в то время, как
русская наука навсегда остановилась на уровне дня объявления войны.
И наконец:
«Зрелище бедствий народных
Невыносимо, мой друг.
Счастье умов благородных
Видеть довольство вокруг»[9].
Можно перенести лишения. Да и никогда
особое материальное благополучие не было уделом людей науки. Можно
еще, пожалуй, кое-как работать, [думая] о «когда-нибудь». Но ни
на одну минуту нельзя отрешиться от страшного сознания ответственности
за судьбу народа и культуры, возложенной на тех, обязанность которых
быть мозгом страны. И когда это сознание соединяется с чувством
абсолютного бессилия, сознанием рабства, еще более недостойного,
благодаря положению привилегированного раба, «освобожденного от
трудовой повинности» и «мобилизуемого для культурно-просветительных
надобностей» ... то этого уже нельзя описать.
«Остальное – молчание»[10]
...
Быть может, высший схематизм науки
способен и при этих условиях делать свое дело. Но ведь и в самой
научно-преподавательской работе это дает себя чувствовать на каждом
шагу. Как читать какую бы то ни было общественную или историческую
дисциплину так, чтобы не получилась сама собою агитация против советского
режима? Недаром, советская власть «ощущает», что в университетах
творится «белогвардейщина». Конечно, никакой умышленной «белогвардейщины»
– нет. Но сама наука и всякая наука есть «белогвардейщина».
Зимой 1920 года к группе преподавателей
Петроградского университета, в том числе и к пишущему эти строки,
обратились представители одного уездного «наробраза»[11];
они учредили у себя народный университет и просили приехать прочесть
несколько лекций. Предложения были самые заманчивые:
– Пожалуйста, профессор! Очень интересуются.
А мы Вам и кофейку, и молочка, и сахарку, и щей с мясом. Ну, что
Вы могли бы нам прочесть?
– Ну, например, о государственном строе
разных иностранных держав. Только, знаете, тема-то щекотливая. Как
бы чего не вышло?
– Что Вы, что Вы? Ведь мы уважаем науку.
Ведь Вы будете излагать объективно!
Поехали. Действительно, получили и
щи, и кофе с молочком. На второй день каждому из лекторов был торжественно
преподнесен заяц.
Зал холодный и темный. Но публики набралась
масса: видно, изголодались по слову, непохожему на речи, произносимые
начальствующими лицами на парадах, почему-то именуемых «митингами».
Гимназисты, учителя, красноармейцы, бабы с грудными ребятами. Я
излагал «объективно». А на другой день по городу прошел «сенсационный
слух», пущенный приезжим профессором – о том, что в Англии никак
нельзя расстреливать людей без суда. Вечером, этот «вопрос» был
поставлен на обсуждение местной «комфракции». А на третий день ...
Тут все: и «приобщение массы к науке»,
и «улучшение быта ученых» (заяц), – и неизбежное заключение: донос
и Чека. И вся жизнь профессора, и вся жизнь высшей школы советской
России состоит из инцидентов с этими же элементами и с тем же финалом.
Бесполезно искать выхода. Жизнь сама
делает неизбежный вывод из данного положения. В стране, вернувшейся
к общественному строю варварских эпох, для науки и научного преподавания
нет места. Ученые гибнут или переселяются за границу. Школа замирает.
Так было и будет, пока существует этот строй.
[1] Впервые опубликовано в:
Молодая Россия. 1922. Вып. 1. С. 36-44. Текст приводится в соответствии
с правилами современной орфографии при сохранении некоторых особенностей
пунктуации автора. Подготовка текста и примечания Марка Тольца.
[2] Имеется в виду Декрет о
правилах приема в высшие учебные заведения РСФСР от 2 августа 1918
года (Декреты Советской власти. Т. III. 11 июля – 9 ноября 1918
г. М.: Политиздат, 1964. С. 141).
[3] Народного комиссариата
просвещения.
[4] Зачетная книжка.
[5] Надзиратели за студентами.
[6] Предмет особой ненависти
(фр.)
[7] Здесь имеется в виду пандемия
гриппа в 1918-1921 гг.
[8] Постановление Совнаркома
о сокращении всех видов продовольственных пайков и о мерах к прекращению
незаконных выдач (Декреты Советской власти. Т. XIII. 1 февраля –
31 марта 1921 г. М.: Политиздат, 1989. С. 50-52).
[9] Строфы из поэмы Н.А. Некрасова
«Дедушка».
[10] Последние слова Гамлета
из одноименной трагедии У. Шекспира; на языке оригинала: The rest
is silence.
[11] Орган управления народным
образованием.
|