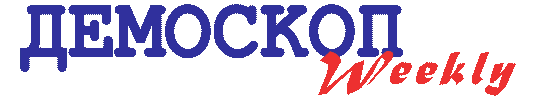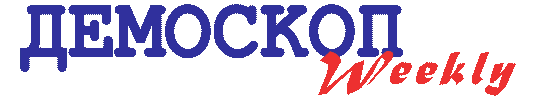|
|
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Нужно было еще в советское время
в деталях разрабатывать проекты
перехода к демократии и рыночной экономике". [1]
Интервью с А.П. Бабенышевым (Июль 2017)
Аннотация. Российский и американский историк,
участник диссидентского движения в СССР, автор многих работ по исторической
демографии, рассказывает о своей жизни в СССР и эмиграции и представляет
результаты своих исследований о демографических процессах в СССР,
потерях населения вследствие коллективизации и Великой Отечественной
войны. DOI 10.31754/2409-6105-2021-1-23-43
А.П. Бабенышев (псевд. Сергей Максудов) является автором
и соавтором книг: Сахаровский сборник (составление совместно с Р.
Лерт и Е. Печуро). М.: Самиздат, 1981 (переведено на английский,
французский, немецкий, итальянский и шведский языки). Второе издание:
М., 1991 (3-е издание — М., 2011); Неуслышанные голоса. Документы
Смоленского архива. Кулаки и партийцы. Ann Arbor, Ardis, 1987 (2-е
издание — М.: Летний сад, 2017); Потери населения СССР. Chalidze
Publication. Benson, USA, 1989; Чеченцы и русские. Победы, поражения,
потери. М.: ИГПИ, 2010; Слепые поводыри. М.: Летний сад, 2016; Подводя
итоги (Сборник статей о литературе и литераторах). М.: Летний сад,
2017; Не своей смертью: Потери населения СССР в 1918–1953 годах.
М.: Летний сад, 2017; Победа над деревней. Демографические потери
коллективизации. М.: Мысль, 2019.
Беседовал С.Е. Эрлих.
С.Э. Давайте поговорим о вашей
семье, ваших родителях.
С.М. Отца я не знал. Мне было три года,
когда он погиб на фронте. Он был историком. В Ленинской библиотеке
есть две его книжечки, одна из них — о донских казаках в 1812 г.,
другая — о сталинской конституции. В одной из моих книг я привожу
его последнее письмо (единственное, которое у меня есть). В нем
он просит мою мать: «Рассказывай ему обо мне, привлекай его внимание
к вопросам истории, если заинтересуется, увлечется — будет толк».
Так что в каком-то смысле стать историком — это было мое наследственное
обязательство.
С.Э. А в каком институте он работал?
С.М. Он работал в школе, какое-то время
он был директором школы. По происхождению он из кубанских казаков.
Моя мать — из традиционной еврейской семьи. Отец ее умер рано. Она
окончила библиотечный институт, училась еще чему-то. У нее были
неприятности из-за того, что ее отец был лишенцем (а он был мелким
еврейским предпринимателем). Три раза ее исключали из комсомола.
Мой отец — ее второй муж. Первый — преподаватель философии, член
партии в 1933 г., был послан на хлебозаготовки в станицу Старощербинскую.
Столкнувшись с чудовищным голодом, доходящим до людоедства, он написал
письмо в райком партии о том, что нельзя у людей забирать последнее
продовольствие, за что получил выговор. Через некоторое время его
арестовали, сослали в Сибирь и там в 1937-м расстреляли. Моей матери
также грозил арест, о чем предупредил ее близкий приятель, работавший
в НКВД. Он пришел ночью и сказал, что она должна срочно сменить
фамилию и уехать. Она и мой отец, с которым у нее был роман, так
и поступили: зарегистрировали брак и уехали в станицу Ростовской
области, где полтора года работали учителями. Во время войны отец
пошел добровольцем на фронт (у него был белый билет из-за плохого
зрения), а наша семья (мать, бабушка и мы с сестрой) отправилась
в эвакуацию. Основные пункты нашего «путешествия»: Ставрополь на
Кавказе, Красноводск, Ташкент, Чимкент, Куйбышев, Ставрополь на
Волге (ныне Тольятти), где мать преподавала литературу в Институте
военных переводчиков. Вместе с этим институтом мы в 1943 г. приехали
в Москву. Мать работала в этом военном институте, в Ленинской библиотеке,
давала уроки, словом, крутилась, как могла, поскольку надо было
снимать жилье (обычно где-нибудь под Москвой) и кормить семью (меня,
старшую сестру и нашу бабушку). Она писала критические статьи о
произведениях советской литературы, работала одно время в журнале
«Октябрь», консультантом в комиссии по критике в Союзе писателей,
в 1955–1966 гг. преподавала в Литературном институте. Вела семинар,
руководила студенческой практикой, издавала студенческий литературный
журнал. В годы оттепели она оказалась среди достаточно активных
людей, воспринимавших этот период как возможность для изменений
в стране. Она дружила с Лидией Корнеевной Чуковской, с Львом Копелевым
и Раисой Орловой, с Владимиром Рудным, с редакторами нашумевшего
альманаха «Литературная Москва». Это был либеральный литературный
круг, повлиявший и на меня. В детстве я верил в построение коммунизма,
но когда выяснилось, что арестованные «врачи убийцы» ни в чем не
виновны, а Лаврентий Берия, входивший в круг самого высшего руководства,
«враг народа и шпион», вера моя заметно поколебалась. А когда вскоре
из лагерей стали возвращаться реабилитированные родственники и знакомые,
мои представления о советской системе как об антилиберальной и антидемократической,
а порой и преступной, окончательно сформировались.
С.Э. Вы еще в школе тогда учились?
С.М. Да, и мои взгляды не позволили
мне поступить на исторический факультет, я считал, что в советской
исторической науке невозможна честная работа, выбрал Геологоразведочный
институт. Он находился на Манежной площади, напротив Кремля, где
шел XX съезд партии. После него я, конечно, поступал бы на исторический.
Отсутствие образования не позволило мне стать историком Древнего
мира или Китая, как я собирался в детстве. Я задумал написать книгу
о том, что сделано за 50 лет советской власти (в это время начали
публиковаться справочные ежегодники «Народное хозяйство СССР»).
Естественно, что в такой работе начинать надо было с изучения населения
и изменения его численности за рассматриваемый период. Так моя жизнь
свелась к расчетам потерь населения, к их оценкам. Наиболее серьезную
работу в этом плане я проделал в 1975–1976 гг. Я закончил книгу
о потерях населения России — СССР в ХХ в. Я показывал ее близким
знакомым, и Рой Медведев предложил мне сделать большую статью для
его журнала «Двадцатый век». Рой Александрович пересылал журнал
брату Жоресу, который в это время жил в Англии, и тот опубликовал
статью в Париже по-французски, а в США по-английски. В Москве я
давал свою книгу читать узкому кругу моих знакомых и нескольким
диссидентам, в частности А.Д. Сахарову. Но к результатам моей работы
читатели отнеслись с недоверием, т.к. у меня цифры потерь, связанных
с репрессиями, были намного меньше, чем в книгах Солженицына «Архипелаг
ГУЛАГ» и Конквеста «Большой террор». Мне говорили, что я пользуюсь
сфальсифицированными материалами переписи 1939 г. На Западе, напротив,
когда статья в 1977 г. была напечатана, она привлекла внимание историков,
советологов и демографов. Когда я выехал из СССР в 1981 г., меня
охотно взяли на работу. Но при этом сохранилось мое традиционное
разделение занятий: для денег (в России это была геология, на Западе
стало преподавание) и для души (советская история и потери населения).
Когда Горбачев создал комиссии для исследования потерь населения
— комиссию Кривошеева для подсчета военных потерь Второй мировой
войны, а также комиссию Андреева, Дарского и Харьковой для подсчета
общих демографических потерь, то полученные этими учеными результаты
практически точно совпали с цифрами, опубликованными мной в 1977
г. Что не удивительно и очень приятно.
Данные об армейских потерях были абсолютно секретны,
и в возможность определить точную цифру на основании опубликованных
советских материалов никто не верил. Когда моя статья лежала в журнале
«Демография» в Париже, один серьезный французский ученый сказал,
что «военные потери на основе демографических данных рассчитать
невозможно», и статью передали в другой, уже не демографический
журнал. Чтобы подсчитать размеры потерь, комиссия Кривошеева проделала
огромную работу по сбору и анализу сведений военкоматов, штабов
армий и других армейских источников.
С.Э. А вы делали свои выводы на основе переписи,
т.к. данных военкоматов у вас не было?
С.М. Данные военкоматов были абсолютно
секретны. Я использовал главным образом переписи 1939 и 1959 гг.
Я исходил из следующих предположений: мобилизовали всех, кого только
можно было. Важно было оценить не только, сколько людей у нас было
в возрасте от 18 до 45–50 лет, но и где они жили. Занятая немцами
территория мобилизации уже не подлежала. Подсчитав эти цифры по
мобилизации по годам, я исходил из того, что все мобилизованные
рано или поздно были брошены на фронт. И вступили в бой. По сведениям
Военно-медицинской энциклопедии, соотношение потерь было «три раненых
на одного убитого». При этом через несколько месяцев 70% раненых
возвращались в строй. Оказалось, что больше, чем 5,5 млн убитых
быть не могло. Комбинации по годам дали мне разумные цифры. Отдельно
и совсем по другим источникам (в основном немецким) оценивалось
число попавших в плен.
С.Э. А комиссия Кривошеева
и других работала с данными военкоматов, и они подтвердили ваши
выводы?
С.М. Да. Эта знаменитая книга называется
«Гриф секретности снят», они работали со всеми архивными материалами.
Главное, что их цифры (мобилизованных, убитых, раненых, умерших
от ран) совпали с моими с точностью до 1–5%. Потом я проанализировал
это совпадение в своей статье, опубликованной в журнале «Свободная
мысль».
С.Э. Расскажите, пожалуйста,
о вашей деятельности как диссидента?
С.М. Я не старался быть диссидентом,
просто принадлежал к оппозиционно настроенному кругу. Моя мать была
очень активным человеком, участвовала в кампании в защиту Синявского
и Даниэля, Бродского, через нее я имел связи с окололитературным
кругом, но с диссидентами я старался дела не иметь. Мне не хотелось
входить в какие-то коллективы, какие-то отношения с людьми, которые
могли в любой момент меня подвести. Я считал, что я занимаюсь своим
делом. Если я что-то делал диссидентского — то случайно, потому
что уже не мог этого не сделать. Ни к какой группе я не принадлежал.
С.Э. В вашей книге «Слепые поводыри» вы достаточно
критично отзываетесь о диссидентах, полемизируя с коллегой, которая
писала, что диссиденты были носителями высокой нравственности, что
смыслом их деятельности было противостояние безнравственному государству.
Вы утверждаете, что в реальности это было не совсем так.
С.М. Безусловно, это было не совсем
так. Деятельность их была очень полезной, но тех, с кем мне приходилось
сталкиваться, очень нравственными, а тем более ответственными людьми
я не считал. Из своего опыта взаимоотношений в этом кругу людей
я понял, что они могли просто не думать о других людях, которых
вовлекают в свою деятельность. Даже самый близкий для меня человек
мог подвести. Но с другой стороны, я считал нужным делать что-то
полезное и общественно значимое. Например, поздравления Солженицына
и Сахарова с юбилеями. В обоих случаях напечатали с пленки несколько
сотен фотографий с поздравительным текстом и раздавали их всем желающим.
После процесса Синявского и Даниэля (1965 г.) стали собирать деньги
для помощи семьям заключенных, их собирали среди писателей и передавали
через меня. Я отдавал их Арине Гинзбург, которая жила в том же доме,
что и я, но в другом подъезде (это был университетский кооператив).
Арина же занималась непосредственно распределением помощи родственникам
заключенных. Для меня мое собственное занятие исторической демографией
было главным делом, а противостояние властям не являлось моей целью.
Если я считал, что должен что-то сделать, то я это делал, а если
кто-то говорил мне, что «надо» сделать то-то и то-то, я, как правило,
отказывался.
С.Э. То есть коллективизм даже в диссидентской
среде вас не привлекал?
С.М. Нет, абсолютно. Я был вне коллектива,
да и остался таковым. Я никого не привлекал помогать мне и в моих
исследованиях. Хотя я часто разговаривал с людьми о моем деле. Это
ни к чему негативному, по счастью, не привело.
С.Э. Вы, конечно, были в курсе дела Бродского,
дела Синявского и Даниэля. Как они воспринимались в то время?
С.М. Я просто принадлежал к кругу,
в который «дело Бродского» сразу вошло. Не могу сказать, что я в
тот момент был слишком высокого мнения о его стихах, они мне нравились,
но в число моих любимых поэтов он не входил. Сейчас я думаю, что
он действительно гениальный русский поэт, лучший в последней четверти
XX в. Копелев и Орлова, которые организовывали поездку к Бродскому
в деревню двух молодых московских врачей, попросили меня как геолога
принести большой рюкзак. Я принес, стал помогать укладывать вещи,
и оказалось, что все не помещается. Решили, что я поеду снова через
месяц и отвезу то, что не уместилось. Получилось, правда, немного
раньше. Главной трудностью для меня был пропуск четырех дней на
работе. Меня отпустили и «прикрывали» мои приятели-сослуживцы. Я
съездил и позже описал это в одном из выпусков журнала «НЛО», а
также в книжке «Подводя итоги». Писал я и о моей поездке к Сахарову
в Горький, я ездил и туда, и даже залез к нему в окно (он жил на
первом этаже).
С.Э. Милиция вломилась в квартиру и вас оттуда
вытаскивала?
С.М. Нет, я пробыл у него часа 2–3,
а потом выпрыгнул обратно из окна и побежал. Они побежали за мной,
но отстали. Я запрыгнул в автобус, а они не успели. Они схватили
какую-то машину, остановили автобус и меня забрали. Меня привели
в участок, организованный напротив квартиры Сахарова, капитан милиции,
страшно переволновавшийся, даже в сердцах меня стукнул, за что я
на него даже не рассердился. Вызволил меня Сахаров, он стоял три
часа у дверей этого участка, пока меня там допрашивали, и колотил
в дверь. Они выходили, говорили: «Андрей Дмитриевич, вы нарушаете
общественный порядок, мы вас сейчас арестуем», но он опять стучал,
давил им на психику. Там были милиционер, капитан и майор КГБ, которые
не хотели брать ничего на себя. Они пытались кому-то дозвониться,
чтобы понять, что со мной делать, но не смогли — все были в разъездах:
весна, суббота. И они выпустили меня, отвезли на вокзал, и я уехал
в Москву. То есть никаких последствий это для меня не возымело.
Но после всей этой истории милиционера пересадили сидеть под сахаровской
дверью. Раньше он сидел в вистибюле, т.е. наблюдал за входящими
с улицы. Но когда я Сахарову рассказал, что первоначальный план
у меня был подняться на самый верх дома по пожарной лестнице, а
потом спуститься на лифте и пройти к его двери за спиной милиционера,
они подслушали и посадили милиционера уже прямо в двух шагах от
его двери.
С.Э. С какой целью вы решили поехать к Сахарову?
С.М. Насолить просто. Вот он в изоляции,
а я решил, что можно попытаться ее пробить, а у него как раз был
день рождения. Незадолго перед этим к нему ездила моя мать, но ее
сразу в Горьком завернули. К сахаровскому дню рождения я делал книжку,
которая сейчас уже вышла полноценным изданием, она называется «Сахаровский
сборник». Тогда это было «подарочное» издание. Кто участвовал? Мы
с Еленой Георгиевной Боннэр сидели и перебирали, кого можно и нужно
попросить принять участие, а кого не следует трогать. Отказавшихся
было немного. Были и те, кого мы решили не просить, например, Окуджаву.
Может быть, он и не отказался бы, но мы не хотели вовлекать его
в диссидентство. Но был круг людей из российской интеллигенции того
времени, в основном, москвичи, кто в это дело включился: Лариса
Богораз, Софья Каллистратова, Григорий Померанц, Раиса Лерт, Сергей
Желудков, Борис Альтшулер, Евгений Гнедин и другие — всего 32 человека,
люди достаточно известные, уважаемые и себя уважающие.
С.Э. Среди них были и люди официально признанные,
например, писатели?
С.М. Да, писатели, но писатели тоже
либерального, полудиссидентского круга — Лидия Чуковская, Лев Копелев,
Владимир Войнович, Семен Липкин — весь тот круг, который был достаточно
очевиден. Совсем незнакомых людей не было. Вообще, то, что я считал
нужным делать, я делал — исходя из своего круга знакомств. Когда
Копелев попросил меня напечатать листовку после вторжения в Чехословакию,
я ее напечатал — тысячу экземпляров на папиросной бумаге, на печатной
машинке, и раздал. Было десять-двенадцать копий в одной «закладке».
Можно было купить тонкую копировальную папиросную бумагу, копирку
и иметь машинку, о которой ты не боишься, что ее засекут. Но судьба
этих копий была печальна: я раздал экземпляры трем или четырем людям
и себе оставил несколько пачек, и опустил в почтовые ящики по Невскому
проспекту — наверное, несколько сотен. Никакого следа это не оставило.
Правда, один мой приятель в высотном здании МГУ в лифте повесил
эту бумагу, было разбирательство, но его не нашли, но это была хоть
какая-то реакция.
С.Э. А другие просто тихо уничтожили эти листовки?
С.М. Я не знаю, что люди с ними сделали.
Но я никаких откликов не слышал, даже со стороны КГБ. В то же время
три девочки, сделав пять копий, повесили одну из них в лифте — их
засекли, арестовали, был процесс. Это я говорю к тому, что деятельность
без риска, без самоотверженности была неэффективна. Сейчас я думаю,
что нужно было быть более решительным и более отчаянным. Но я делал
то, что хотел.
С.Э. А как вы решили уехать из Советского Союза?
Или вас заставили уехать?
С.М. У меня была серьезная причина
испугаться ареста за то, что я делал. У меня была астма, я понимал,
что с ней долго не продержусь. Лекарства передавали мне из-за границы,
и я думал, что если меня арестуют, мне будет очень плохо и будет
плохо моим близким. И поэтому выход я видел в том, что мне надо
уехать. Вот тогда я решился и поехал. Это был 1981 г., такое время,
когда светлых перспектив впереди не предвиделось. Я уехал вместе
с матерью.
С.Э. Вы выезжали по израильской визе?
С.М. Да. Визу получить было довольно
просто. Знакомые переслали документы, власти довольно быстро меня
пропустили. Время было такое, когда определенные люди были поставлены
перед выбором: ехать на запад или на восток. Я сам себя к таким
людям отнес. Может быть, без оснований...
С.Э. А как вы на работу там устроились?
С.М. Я уже говорил, что у меня было
некоторое имя в области демографии, и когда я приехал в Бостон,
то пришел к историку Александру Некричу, я его лично знал: занимаясь
потерями войны, я у него консультировался и получал от него книги,
он помогал мне в Москве устанавливать контакты с военнными врачами.
Он работал в Гарварде в Русском институте. И меня сразу взяли в
проект, тогда начинавшийся и называвшийся «Голодомор». Проект был
связан с изучением голода 1933 г. на Украине и в других районах
страны. Потом меня переманили в Эдмонтон в Канаду. Там находился
Украинский институт и было собрано много материалов по этой теме.
И я написал довольно толстую книгу, около 1250 страниц. Компьютеров
в то время еще не было. Я работал на пишущей машинке. Печатать книгу
сочли целесообразным на английском, долго и плохо переводили, вводили
в компьютер, редактировали. Это был длительный процесс, который
ничем не закончился. Были договоры с издательствами в Нью-Йорке
и Лондоне. Книга очень нравилась директору Канадского украинского
института, который ее редактировал. Работа в силу разных причин
так и не была тогда завершена. Издание на английском так и не состоялось.
А с открытием архивов книга сразу устарела. И вот только сейчас
я решил вернуться к ее изданию. Но это уже не совсем та книга. Расчеты,
которые я проводил теперь, совсем другие. Содержание мало поменялось,
а круг примеров необычайно расширился. Я надеюсь издать ее в скором
времени[2]. Это рассказ об
истории коллективизации и о потерях населения в ходе нее. Голодомор
был связан с завершающим этапом коллективизации, и он дал наибольшие
потери населения. Но большие потери были и при раскулачивании, и
в результате высылки на север и на восток, и, главное, большие демографические
потери понесла вся страна в результате резкого ухудшения условий
жизни и городского, и сельского населения. С подобным фактом мы
еще не раз столкнемся в российской и советской истории.
С.Э. Вы там берете только Украину или всю территорию
СССР?
С.М. Я беру всю территорию СССР и Украину
как часть страны.
С.Э. Это было еще до развала СССР. А что было
после развала? Книга «Слепые поводыри» начинается с того, что 18
августа 1991 г. вы приезжаете в Москву накануне путча, в оптимистическом
настроении, все прекрасно, народ берет власть. Расскажите, пожалуйста,
что вы чувствовали 19 августа 1991 г. и как эти чувства начали меняться?
С.М. Я видел, что страна меняется прямо
на моих глазах. Я был среди тех, кто тогда собрался у Манежа, это
около двух тысяч человек. Я узнал в «Мемориале», что люди собираются.
Потом мы вместе со всеми пошли от Манежа к Белому дому. Это было
как торжество совершающейся истории. Движение в правильном направлении,
и мы в происходящем участвуем. У меня были связи, и я мог через
полгода или даже через четыре месяца напечатать книгу об этих событиях,
которая у меня была почти написана.
С.Э. А о чем эта книга?
С.М. О путче, о моих впечатлениях,
с каким-то предисловием. Но жизнь разочаровала меня. Оказалось,
что я ошибался, и были правы люди, которые думали иначе. Это был
очень серьезный урок для меня. Я никак не ожидал развала СССР. Перестала
существовать страна, которую я знал, объездил почти всю и как турист,
и по работе. Это и Кавказ, и Прибалтика, и Украина. Все это потерялось,
и для меня это было достаточно трагично и очень неприятно. При этом
многие мои знакомые думали, что все идет по-прежнему хорошо, правильно.
То, что происходило 19 августа, все это было направлено на сохранение
Горбачева на своем посту, на продолжение горбачевских реформ. Приход
Ельцина был для меня трагичен. Я в 1993 г. написал статью «Борис
Николаевич Кровавый».
С.Э. Есть такое мнение, что без развала СССР
был бы невозможен переход к рыночной системе. А как вы считаете,
можно было построить демократическое общество без развала СССР?
С.М. Я не сомневаюсь, что можно было.
Мы видим, что соседние страны, примыкавшие ранее к СССР, перешли
к демократическому обществу. Конечно, все по-разному, с разными
трудностями. Но я думаю, что то, что собирался делать Горбачев —
ослаблять центр и давать больше власти на местах, все это было бы
на порядок лучше и демократичнее, чем то, что случилось на самом
деле — я имею в виду переход к авторитаризму. Восточноевропейские
страны перешли к национализму, но никак не к авторитаризму. Коммунистическая
идеология превратилась в национальную очень легко, и при этом порой
с теми же самыми людьми во главе. То, что случилось у нас — это
ужасно. Но я не вижу ничего, что бы мешало нашей стране пойти по
демократическому пути. Приватизация, разграбление страны — это шаг
не к демократии, а к авторитаризму. Не вижу других причин для невозможности
демократического перехода, кроме настроения либеральных кругов общества.
Парламент, который был в то время выбран, где были Сахаров, Ельцин,
была оппозиция, — это был все-таки шаг к демократии. И ничего похожего
не было после этого, нет и сейчас. Все, что было сделано с целью
развала СССР, работало не на демократию, а на авторитаризм.
С.Э. Почему оппозиционная интеллигенция избрала
своим вождем не кого-то вроде Валенсы, а секретаря ЦК КПСС? Ведь
такой выбор во многом предопределил дальнейшее развитие событий.
С.М. Я думаю, что Ельцин был приспособленец.
Преждевременная кончина Сахарова во многом освободила ему дорогу.
Он входил в оппозиционную группу. «Валенсой» в нашем случае мог
стать Сахаров. Солженицын — тоже человек, который мог бы организовать
все, но он не вернулся вовремя. Люди закрывали глаза на то, что
Ельцин — человек, перебежавший из другого лагеря. Лично я знал его
только с плохой стороны. Я не видел в нем реального лидера, он просто
оказался в нужное время в нужном месте и захватил власть. Как сейчас
Навальный, который сам себя выдвигает. И мне кажется, он может повторить
путь Бориса Николаевича. Интеллигенция была не готова. У нее не
было никаких соображений, никаких планов. Я ее не обвиняю, я сам
такой же. Не было идеи о том, как организовать новый порядок. Нужно
было еще в советское время в деталях разрабатывать проекты перехода
к демократии и рыночной экономике.
С.Э. То есть программа свержения советской власти
обсуждалась, а программа того, что делать дальше, даже не проговаривалась?
С.М. Не проговаривалась абсолютно.
Даже с тем же Сахаровым: никто не думал «как». Никто не думал, что
все рухнет так быстро, никто не был к этому готов. Должны были думать,
но не думали. В самый критический для страны момент Сахаров занимался
тем, что требовал убрать шестой пункт из Конституции, пункт о руководящей
роли партии. Это был для него наиболее важный вопрос на тот момент.
С.Э. Расскажите, пожалуйста, о вашей научной
деятельности с конца 1980-х. Что вы писали?
С.М. Я был завязан на прежней теме
— потерях населения. Закончил книгу, о которой я уже говорил, в
1983 г., а через год меня позвал Кронид Любарский в эмигрантский
журнал «Страна и мир». В Мюнхене. Я там какое-то время проработал.
Печатал и архивные документы, и статьи. Это была моя деятельность
как журналиста. Потом Валерий Чалидзе, возглавлявший в США русскоязычное
издательство, взял меня редактором в журнал «СССР: внутренние противоречия».
Все это были дополнительные занятия, научного аспекта в этой моей
деятельности не было. Потом я поступил работать в Гарвард. Был научным
сотрудником Русского института в Гарварде. Преподавал на славянском
факультете Гарварда — на русском языке, и написал в то время ряд
статей о литературе, о «Мастере и Маргарите», о Бродском… Когда
пришло время, я все это собрал и отдельной книгой издал. Из книг
я издал еще «Потери населения СССР» в издательстве Чалидзе в 1989
г. и в издательстве «Ардис» — «Неуслышанные голоса» — это документы
Смоленского архива. Эта книга имела какой-то отклик. Хотя до Москвы
дошло, вероятно, только несколько десятков экземпляров, один человек
из «Огонька» выпустил книжку «По следам Смоленского Архива», где
были использованы материалы из моей книги. Он поехал в Смоленскую
область и пытался узнать что-то о героях моей книги, о людях, упомянутых
в архивных документах. Он пытался узнать, что герои моей книги делают
в настоящее время. Моя книга — о том, что было в Смоленской области
в 1929 г. Книги были замечены. Еще одна моя книга, отнявшая у меня
много времени, «Чеченцы и русские. Победы, поражения, потери», вышла
в 2010 г. в Москве. И это была в некоторой степени моя оппозиция
«Мемориалу», который в Чеченской войне замечал только потери чеченцев.
Я вынужден был написать эту книгу, потому что меня задевало то,
что, во-первых, потери чеченцев значительно преувеличены, а во-вторых
— не говорилось о потерях русского населения, которое было вынуждено
из Чечни бежать, на 95% оно изгнано из Чечни. Сведения по этому
вопросу искажаются и сегодня, современными властями. Это касается,
кстати, и истории этого края времен Великой Отечественной войны.
Мало кто говорит сейчас о том, что в 1941–1942 гг., когда пытались
в армию мобилизовать чеченцев, они в большинстве просто бежали в
горы. Мобилизацию в Чечне тогда отменили. И насмешкой я считаю недавнее
объявление Грозного городом-героем. Да, жители Грозного героически
помогали его защите, но сегодня эти люди и их потомки изгнаны оттуда.
С.Э. Это был уникальный случай такого рода?
Или это вообще было распространено на Кавказе?
С.М. Никаких проблем с мобилизацией
не было у осетин. В Дагестане были проблемы, но там до полной отмены
мобилизации не доходило. Чеченцы, ингуши были более активны в отстаивании
своих интересов, скажем так. Они не хотели идти на войну, которую
считали чуждой себе. И талантливейший из чеченцев, Авторханов, отправился
с письмом к Гитлеру от руководителей укрывшихся в горах чеченцев.
Он перешел через линию фронта, попал в Германию с этим письмом и
потом остался в Германии навсегда. Он писал интересные книги, преподавал
в школе переподготовки американских офицеров, рассказывая им о Советском
Союзе. В годы перестройки призывал чеченских вождей не портить отношения
с Россией. Я ни в коем случае не одобряю высылку чеченцев и других
народов Сталиным, независимо от того, насколько обоснованной она
представлялась советским властям. Но с другой стороны, Вторая мировая
война разделила мир на две части: с Гитлером и против Гитлера. И
первую группу народов человечество безоговорочно осудило. После
окончания книги по чеченской теме я решил вернуться к книге о коллективизации.
Я участвовал в различных конференциях, написал десятки статей. Подготовил
к печати и книгу с новыми подсчетами.
С.Э. У вас есть статья «Четвертая демографическая
катастрофа», о том, что было три катастрофы — Гражданская война,
коллективизация и Большой террор, Великая Отечественная война, и
четвертая — ельцинский период. Могли бы вы дать характеристику этих
катастроф для наших читателей? В прессе попадаются совершенно фантастические
данные по этим периодам. Солженицын, помните, насчитал 110 млн жертв
советских репрессий. И многие люди до сих пор эти цифры повторяют.
Вот, недавно какой-то пропагандист из Кремля назвал цифру погибших
в Великой Отечественной войне — 42 млн человек. И меня поражает,
что люди с удовольствием повторяют этот бред.
С.М. Да. Это так. Я написал для демографического
журнала заметку о преувеличении размеров военных потерь. Об этих
«42 миллионах».
С.Э. Давайте с Гражданской войны начнем, с голода
1921 г.
С.М. Вот книга, на которую я ссылался,
«Гриф секретности снят». Когда открыли военные архивы по Гражданской
войне, цифры оказались удивительными, причем и для меня тоже. Хотя
я предполагал цифры меньшие, чем думали другие. Боевые потери Красной
армии вместо 5 млн человек оказались несколько сотен тысяч. Потери
Белой армии еще меньше. Получается, что военные потери в столкновениях
Гражданской войны — это максимум, может быть, 500 тыс. человек,
если включить те банды, которые бегали по лесам. Но были еще громадные
потери от разрушения государства, от изменений полностью образа
жизни людей, нехватки продовольствия, от голода, массовых инфекционных
заболеваний. В той же Красной армии от инфекционных заболеваний
умерло 700 тыс. человек, т.е. 10% мобилизованных. У гражданского
населения к инфекционным болезням добавляются и потери от голода.
С.Э. А каковы общие потери Гражданской войны?
С.М. Общие потери я всегда считаю по
переписям, но надо обговорить, что такое «потери по переписям».
Это люди, которые жили бы (не умерли), если бы сохранялась мирная
ситуация. Если мы берем уровень смертности и рождаемости 1913 г.
и проецируем его на последующие годы, считая, что он существенно
не меняется, и потом сравниваем численность рассчитанного таким
способом населения с реальной численностью по переписи 1926 г.,
мы получаем демографические потери в 12,8 млн. Столько человек не
досчитались в 1926 г. При этом эмиграция из страны составила около
2,5 млн и немного больше 10 млн унесла повышенная смертность населения.
Это и есть в моем понимании демографические потери — это не число
убитых, это сравнение гипотетического уровня с реальным. Если нет
катастроф, то не должна расти смертность. Медицина улучшается —
смертность должна снижаться.
С.Э. То есть 2,5 млн — эмиграция, 500 тыс. —
погибшие во время боевых действий, и 10 млн — умершие от болезней
и голода. Умершие от голода 1921 г. входят в это число?
С.М. Да, причем голод 1921 г. не был
таким массовым, как думали когда-то. В 1922–1923 гг. его оценивали
в 5 млн человек. Когда появилась перепись 1926 г., увидели, что
5 млн никак быть не может. На самом деле этот голод унес жизни около
1,5 млн, ну, не больше, чем 2 млн.
С.Э. А смертность от гриппа? Тогда ведь от гриппа
тоже много человек погибло, в 1918 г.?
С.М. Да. От гриппа, «испанки». Есть
очень хорошая, достоверная цифра, которую я привожу всегда — это
1 млн человек, умерших от гриппа в Америке в 1918 г. — и это с учетом
их условий, хорошей по тому времени медицины, при хорошем продовольствии.
Получается, что в России это должна была быть цифра в несколько
миллионов человек. Так как в России накладывались еще и трудности
с жильем, продовольствием. По отдельным болезням я ничего сказать
не могу. Суммарно можно получить какую-то цифру. Люди бежали из
городов. Были продовольственные отряды, которые выходили, чтобы
что-то в деревне захватить и принести в город, но в больших городах
прокормиться было нельзя. Структура страны была разрушена, непонятно
было, как что-то покупать — можно было только что-то у кого-то отнимать.
Деревня не хотела ничего безвозмездно давать, достать продовольствие
в городе было трудно. Плюс еще армия, которую надо было кормить.
Так что это было очень тяжелое время, поэтому оценка потерь достаточно
велика. Коллективизацию я знаю лучше, потому что для ее изучения
у нас есть переписи. С одной стороны — перепись 1926 г., когда ситуация
была спокойная, и, с другой стороны, перепись конца 1936 — начала
1937 г. До Большого террора эта цифра как раз хорошо выделяется.
Получается цифра порядка 10,5–11 млн человек. Из них пять — это
потери, которые связаны с реальной физической смертью. Это включало
в себя и тех кулаков, которые были сразу расстреляны как потенциальные
враги. 2,5–3 млн было выслано, депортировано — из них 700 тыс. умерло
сразу, в 1931–1932 гг. Четыре миллиона — это число умерших в 1932–1933
гг. от голода без всяких депортаций. Миллион из них — это Казахстан
в 1931–1932 гг. Таким образом, пять миллионов — это реальная физическая
смерть. А еще пять миллионов — это демографические потери к 1937
г. Свое дело делали нехватка лекарств, ухудшение питания, отсутствие
медицины.
С.Э. А почему во время голода 1932–1933 гг.
умерло людей в два с лишним раза больше, чем во время голода 1921
г.?
С.М. Голод 1921 г. тоже имел некую
политическую компоненту. Крестьяне, у которых продразверсткой отнимали
зерно, снижали посевы. Была нехватка зерна, и в основном это коснулось
сельского населения в районах сильного неурожая. Голод не распространился
на всю страну. Плюс была помощь и государственная, и заграничная,
что играло немалую роль (организация столовых нансеновским комитетом
и американскими обществами). Этот голод не был столь же массовым,
как он был в 1918–1919 гг., когда все городское население страдало.
А тут страдало в основном сельское население Поволжья и юг Украины.
Для них 1,5 млн — это очень много. В 1932–1933 гг. была затронута
и вся Украина, и весь Северный Кавказ, и Поволжье — намного большая
территория и намного большее население. И вместо какой-либо помощи
в этих районах происходил унизительный поиск и изъятие зерна. Здесь,
безусловно, была громадная ответственность власти за то, что случилось.
Действительно, сельское население в 1932 г. не очень хотело работать
ни на посевной, ни на сборе урожая, потому что у них перед этим
забрали весь урожай. Так что этот голод был войной власти против
населения, чтобы заставить население в будущие времена подчиняться
и работать. Попытки населения своими силами уцелеть, не имея дела
с властью, были обречены.
С.Э. Сталинисты объясняют голод 1932–1933 гг.
плохими погодными условиями. В то же время Виктор Кондрашин пишет,
что тогда не было особенно сильной засухи и основная часть потерь
— это результат действий власти. Иногда утверждают, что в это же
время был голод и в Румынии, и в Польше, и в Австрии. Есть ли какие-то
данные о том, что там были большие потери среди крестьян в 1932–1933
гг.?
С.М. По моим данным, столь масштабных
потерь (и даже в десятки тысяч) там, конечно, не было. И в Западной
Украине, которая тогда была частью Польши, ничего подобного не было.
У меня есть старый критерий, показывающий, был ли голод на той или
иной территории или нет. Это сравнение численности родившихся в
1933 г. и в соседние годы. Если голод был, то на месте 1933 г. провал,
если не было — цифры 1933, 1932, 1934 гг. сопоставимы. Такая проверка
возможна по любой переписи населения, проведенной после 1933 г.
По этому критерию ни в одной области Западной Украины, ни в Западной
Белоруссии или Молдавии голода не было. Судя по принадлежавшей тогда
Румынии Бессарабии, ничего подобного не было и в самой Румынии.
Не было и в Польше. Погодные условия здесь не играли решающей роли.
Они могли играть роль в Казахстане в 1931 г., но в Советской Украине
этот голод имел другие причины. Везде государство хотело забрать
больше, чем забирало раньше, хотя урожай был хуже (но не из-за погодных
условий, а из-за худшей работы крестьян). Генерал Григоренко писал:
он поехал забирать своего отца из родного села. Приезжает, там громадное
село, больше 3000 человек, и он поражается: работает восемь человек,
одна молотилка.
С.Э. Это еще до того, как начался голод?
С.М. Это конец лета 1932 г. И он говорит
этим людям: «Зерно же в поле опадет». Они: «Конечно, опадет». Эти
люди, деревенские жители, работать не хотели, потому что знали,
что государство заберет себе все, и зачем тогда они будут собирать
это зерно? То есть здесь была вторая компонента: сопротивление сельского
населения в сборе урожая. Об этом есть множество свидетельств. Это
столкновение играло определяющую роль. Безусловно, наибольшая ответственность
лежала на власти, которая исходила из принципа «сколько хотим, столько
и возьмем», неважно, каким образом — и забирали все зерно. Люди
говорили: «А что мы будем есть?» — им отвечали: «Надо было лучше
работать». Все. Борьба, изъятие, насилие привели к этим трагическим
результатам, а не неурожаи, не погода.
С.Э. В коллективизацию у крестьян забирали самое
ценное для них — землю. Почему не было массовых восстаний? Ведь
в Гражданскую войну восстаний было гораздо больше, хотя тогда землю
у крестьян не отнимали.
С.М. Первая мировая война закончилась
возвращением пятнадцати миллионов вооруженных людей в деревню! Пришли
люди с винтовками, которые перед этим воевали с немцами. Это дало
деревне молодую, вооруженную часть населения, готовую к сопротивлению.
Возникли самые разные движения, в основном национальные, но и другие
тоже. Это было совсем другое время, другая деревня, которая еще
была относительно независимой и имела общинную традицию. Коллективизация
же была кампанией, где заранее был предусмотрен арест 70 тыс. человек,
которые могли бы возглавить сопротивление. Их или расстреливали,
или высылали в лагеря. Это было решение 1930 г., когда составлялся
окончательный план коллективизации. Кулаки были разделены на три
категории: первая — те, кого ГПУ арестует заранее, и суд ГПУ решает,
расстрелять их или в тюрьму. Это как раз «потенциальные руководители
сопротивления». Вторая категория — те, у кого все имущество отбирается,
а сами они высылаются на север или на восток. Третья категория —
те, кто переселяется на границы районов. Это самая случайная категория,
с ней ничего не получилось, а вот по первой и второй не только выполнили,
но перевыполнили план. В первой было записано 60 тыс., а арестовали
больше 70, из них расстреляли около 40 тысяч. То есть это сопротивление
было, во-первых, заранее подавлено. Во-вторых, были активные группы,
например, посылалось городское население (двадцатипятитысячники),
и армия, и молодежь, и бедняки вовлекались в борьбу с кулаками.
Бедная часть деревни, даже не работавшая на земле, имела право участвовать
в обысках, в конфискации имущества. Они вовлекались в это противостояние.
Все эти силы — молодежь, партийно-комсомольские активы, армия, бедняки
— помогли ликвидировать возможность какого-то сопротивления. Выходили
женщины, иногда мужчины, но их легко подавляли полицейские силы
и армия. Большого организованного сопротивления возникнуть не могло,
все в достаточной степени контролировалось. Плюс город противостоял
деревне.
С.Э. Еще насчет казахов. Они же больше занимались
животноводством. Они погибли из-за того, что у них забрали скот?
С.М. Нет. Им приказали жить на месте,
упразднить кочевой образ жизни — прекратить их движение со стадами,
поселить их на постоянные места жительства. Скот тоже обобществлялся,
но их волновало скорее другое, то, что им предписывают жить постоянно
на этой территории. Они не послушались и бежали — в степь, в пустыню,
отчасти за границу. И так как это движение было не просто движением
со стадами, а бегством, они потеряли 90% скота. Потерять скот для
них было то же, что потерять пищу. Потери достигли 1200 тыс. людей,
точнее, это столько, сколько мы не находим в переписи. Двести тысяч
из них, как считается, бежало в Китай, поэтому миллион общая цифра.
С.Э. Еще вопрос по голоду 1932– 1933 гг. Я не
встречал в литературе свидетельств о том, чтобы современники-горожане
были этой темой в то время массово озабочены. Почему было такое
молчание среди интеллигентной части общества?
С.М. У интеллигентной части общества
были свои проблемы. Но О. Мандельштам, абсолютно посторонний человек,
далекий от сельского хозяйства, написал: «И тени страшные Украйны
и Кубани». Он неслучайно это написал. Оказавшись в Крыму случайно,
он не мог не увидеть этой трагедии — крестьяне как тени. «Природа
своего не узнает лица, / И тени страшные Украйны и Кубани / Как
в туфлях войлочных голодные крестьяне / Калитку стерегут, не трогая
кольца...». Это крестьяне, бежавшие с Украины в Крым. И многие люди
в дневниках писали об этом, настоящая интеллигенция об этом знала
(в какой-то степени, пусть в очень небольшой). После войны В. Гроссман
написал повесть «Все течет». Свидетельств действительно мало. Безусловно,
репрессии, которые затронули горожан, вызвали намного большее внимание
в литературе, чем трагедия крестьян, которых историки называют —
«Великий немой».
С.Э. То есть проявилась такая удивительная,
учитывая народнические настроения до революции, черствость к чужой
беде?
С.М. Интеллигенция была уже совсем
не дореволюционная, она еле-еле справлялась со своими проблемами.
Когда они сталкивались с реальностью сами — например, Пастернак
поехал на стройку на Урал, он увидел и ужаснулся. Но для него съезд
писателей в том же году, в 1934-м, был важнее. Народническая линия
была очень ослаблена, если вообще не исчезла к этому времени. Я
думаю, что жестокосердие, жестокость, послушание даже абсурдным
решениям власти — эта психология была выработана в конце коллективизации
этим голодом. После голода крестьяне покорно работали, и все, что
государство хотело, оно забирало всегда спокойно. Вот в 1936 г.
был очень плохой урожай. Каганович пишет Сталину: плохой урожай,
нам нужно готовиться, отбирать зерно, как в 1933-м. И Сталин отвечает
ему: «Не беспокойтесь! Сами все отдадут». Так и случилось: все вовремя
забрали, никого не пришлось обыскивать и изымать. Подчиненность
была уже очень сильна. То, что случилось тогда, и выработало психологию
советского человека, которая, на самом деле, ужасна — да, абсурдно,
но проще всего было бы подчиняться, выполнять и не обсуждать, а
существовать, как можешь. Случившееся во время Большого террора
отчасти было порождено теми людьми, которые прошли коллективизацию
— когда можно не думать об умирающих детях и все, что угодно, делать.
Была воспитана большая группа людей, которые готовы были и дальше
делать абсурдные вещи.
С.Э. А потери Большого террора какие?
С.М. Я принимаю полностью официальные
данные: 650 тыс. расстрелянных и около 400–500 тыс. умерших в лагерях
в это же время сверх обычной смертности. То есть около миллиона
потерь. Так занимавшиеся этим люди и говорят, может быть, более
точно, чем я, но в основном такие же цифры. В моей первой, 1977
г. работе я оценивал эти потери в миллион.
С.Э. Каковы были потери во время войны — общие
потери и их структура?
С.М. Общие потери — это демографические,
между 1939 и 1945 гг. Сколько должно было бы быть и сколько реально
было. Цифры и у меня, и у Андреева, Дарского и Харьковой одинаковые:
25 млн умерло между этими датами, это сверхсмертность, т. е. смертность,
которой не должно было быть. Это без детей, родившихся в это время.
Я детей не считал, а они считали, их цифра более правильная, она
охватывает и детей, родившихся во время войны, и тогда цифра — 26
700 000. Это демографические потери всей страны. Они не совсем точны
и в какой-то степени могут быть пересмотрены, потому что в 1939–1940
гг. добавилось к стране около 20 млн человек — это Прибалтика, Западная
Украина, Западная Белоруссия и т.д. (точную цифру определить очень
трудно, учитывая обмены населением между Россией и Польшей, Россией
и Румынией). Итак, 25–27 млн — такова сумма военных потерь. Цифра
42, которая возникла сейчас, абсурдна. Если произойдут уточнения,
то, скорее всего, в сторону уменьшения от цифры в 27 млн человек.
С.Э. Я встречал такой аргумент, что цифра в
25–27 млн завышена, потому что перепись 1939 г. завысила численность
населения. Что вы можете по этому поводу сказать?
С.М. Это правда, я не учитывал эту
погрешность. А Андреев, Дарский и Харькова ее учли, потому что они
использовали перепись 1939 г. не по официально опубликованным данным,
а по сохранившимся архивным материалам, где все эти завышения отсутствуют.
Составители добавили один процент как оценку недоучета. Они совершенно
правильно сделали, потому что масса людей скрывалась в городах без
прописки, и многие из них, вероятно, не прошли перепись. Поправки
были сделаны на Украине и в Казахстане, 1939 г. А в действительности
в поправках нуждалась перепись 1926 г., проведенная недостаточно
точно. Так вот с учетом этих завышений у них получилась цифра в
26–27 млн. Это вносит ошибку преувеличения в мою цифру примерно
на 200 тыс. Я вполне доверяю их цифре. При этом надо иметь в виду,
что перепись 1939 г. — может быть, самая точная из всех, что когда-либо
проводились в мире — никогда никто до этого не старался так учесть
каждого человека. На каждого человека, встреченного вне дома, заполнялся
специальный бланк: где он живет, кто там хозяин — и посылался этот
бланк по месту его жительства. Там должны были посмотреть, живет
ли там этот человек. Всех присланных разбивали на четыре категории:
живет, не живет, правильно указал или неправильно указал, прошел
перепись или не прошел. Такой процедуры никто больше не делал —
чтобы поймать каждого. Так что эта перепись в этом смысле была хороша.
Учитывалась также разного рода мобильность населения, в том числе
связанная с призывом в армию, откуда был призван и т.д.
С.Э. А какова структура потерь времен войны?
Имею в виду и армию, и население, которое осталось на оккупированной
территории, и тех, кто жил на советской территории.
С.М. Наиболее известны данные по армии
и вокруг армии, скажем, миллионов десять. Остальные части — уничтоженные
евреи, обычно считают 3 млн. Осада Ленинграда — от 700 тыс. до миллиона.
Мирное население в ходе боевых действий, артобстрелов, бомбардировок
— до 500 тыс. И дополнительный фактор — изменение условий жизни
привело к несколько большей смертности. Но в эту цифру, безусловно,
входят и потери на неоккупированой территории — гибель заключенных
на Колыме, которым не завезли продовольствие, это сотни тысяч людей;
расстрелы дезертиров — это опять-таки сотни тысяч людей. И, главное,
ухудшение условий жизни на этих территориях, худшее продовольственное
снабжение, отсутствие медицины после ухода врачей в армию — все
это привело к определенным потерям, это в общей сложности несколько
миллионов.
С.Э. Значит, армейские потери это пять миллионов
погибших в бою и миллион — умершие от ран. А те, которые попали
в плен?
С.М. Это отдельная тема, до сих пор
открытый вопрос. Очень загадочный вопрос в том смысле, что когда
шел военный учет, то цифры тех, кто попал в плен, отсутствовали.
За всю войну лишь 30–40 тыс. человек записаны как пленные. Была
графа «пропал без вести», и она очень широко использовалась. Армейское
командование батальонов, полков использовало эту фразу. За этой
фразой скрываются потери, которые трудно оценить. Немцы утверждали,
что взяли в плен 5,7 млн человек. Советская сторона (Кривошеев по
российским источникам) дает 4,6 млн. Немцы, таким образом, насчитывают
на миллион с лишним больше. Кривошеев на это говорит: это люди,
которые не проходили военкоматы, это люди, просто арестованные немцами
— железнодорожники или еще какие-то группы людей, которые попали
в военные лагеря, или ополченцы, не прошедшие через военкоматы.
Это возможно, но в таком большом количестве — довольно странно.
Но более существенно следующее расхождение: по немецким данным,
в плену погибло 3,5 млн, а по данным Кривошеева — 1,1–1,6 млн, т.е.
почти в два раза меньше. Это очень большое необъясненное расхождение.
Никто не хочет отказаться от своих собранных материалов. Многие
считают, в том числе историк В. Земсков, что потери в лагерях в
первые дни войны были намного больше, т.к. в 1941 г. военная статистика
была плохая. Сюда должны входить окружения в котлах. В Вяземском
котле, в Белоруссии, под Смоленском. У меня своего суждения на этот
счет нет. Цифра, которая следовала из советских сведений (сама она
не публиковалась), — это 1 млн с небольшим. По немецко-американским
расчетам — это 3–3,5 млн военнопленных. Я считаю, что должна быть
средняя цифра, это около 3 млн человек. Военные упираются, и понять,
как получается, что они не досчитывают, и какая цифра должна быть
на самом деле, — трудно.
С.Э. То есть эта такая национальная гордость?
Им не хочется признавать, что военные потери были настолько высокими?
С.М. Это не национальная гордость,
а научное упорство. Они собрали материалы, они в них верят. Упирают
на то, что это так. Конечно, цифра из немецких расчетов могла быть
преувеличена. В 1941 г. считали очень плохо. Людей без всяких фамилий
загоняли тысячами в овраги. Там их почти не кормили, бросали им
что-то из еды просто сверху... Не было у немцев возможности ни транспортировать
этих людей куда-то, ни кормить.
С.Э. То есть в плену люди погибали от голода?
С.М. От голода, от ран, от немыслимых
условий. Потери были очень большие. Потери и тех, кто был в окружении,
и военнопленных, которые не умели сражаться и сразу сдавались, —
это громадные потери. До 1942 г. эти громадные потери немцы не считали.
Только в январе 1942 г. было принято решение определить военнопленных
на работу в Германию. Какими-то путями их стали вывозить туда. И
после этого учитывать военнопленных стали уже достаточно хорошо.
Таким образом, большое число людей, взятых в плен, российской военной
статистикой не учтено вообще. Этот вопрос остается открытым. Историкам
необходимо его тщательно изучать, исследовать. Поэтому у меня по
цифрам 1941 г. особой веры нет. Немцы могли считать дивизиями и
полками. Например, людей взяли в окружение, и сразу же их записывали
в потери. Но бывало и так, что часто люди убегали, прятались и могли
умереть в разное время. Я верю в цифры по убитым и раненым, но по
военнопленным — нет.
С.Э. Перейдем к четвертой демографической катастрофе,
о которой вы пишете в книге «Слепые поводыри» и в вашей статье по
этому вопросу. Расскажите, пожалуйста, как вы оцениваете демографические
потери после 1991 г.?
С.М. Здесь очень хороший источник —
это перепись 1989 г., довольно разумная и спокойная; имеем таблицы
смертности для 1989–1990 гг. Так вот, вполне естественно предположить,
что смертность с 1989 г. и в следующие десять лет должна была бы
быть на том же уровне или, возможно, даже несколько снизиться, что
можно объяснить развитием медицины. Выстраивая линию до 1995 или
1999 г. и сравнивая с переписью 2002 г., мы видим число людей, которых
не хватает, хотя они должны были бы жить в это время. Они должны
были быть живы при условии, если бы страна развивалась нормально.
В значительной степени это мужчины — 3 млн человек и 1 млн — женщины.
С.Э. Это расчеты по Российской Федерации?
С.М. Да, это цифры по Российской Федерации.
Я не считал ни Среднюю Азию, ни Кавказ, ни Украину. Но ориентировочно
могу сказать, что там умерло не меньше, т.к. там были более тяжелые
условия с продовольствием, с отсутствием работы. Так что эту цифру
можно удваивать или даже больше, чем удваивать. В своих расчетах
я беру цифру 4 млн человек. Но российские демографы при подсчетах
исходят из того, что ситуация в стране должна была улучшаться и
смертность должна была снижаться, так же как в соседних европейских
странах. Они считают так, как если бы смертность снижалась и не
было причин для ее увеличения, и они, таким образом, насчитывают
14 млн потерь.
С.Э. Это не слишком много?
С.М. Это много, но надо исходить из
того, какие материалы они используют. Они считают, что если бы жизнь
была нормальная, возможно было использование новых лекарств, имеющихся
в мировой практике, использование новейших методов в медицине…
С.Э. То есть если бы страна развивалась вперед.
А кто сделал эту оценку — 14 млн человеческих потерь?
С.М. Это опубликовано в книге Института
демографии под руководством А. Вишневского. Исследование называется
«Демографическая модернизация России. 1900–2000 годы». Это реальная
цифра, если считать, что жизнь должна была все время улучшаться.
По европейскому сценарию. Ну а я считаю по минимуму, и это потери
в 4 млн человек, на самом деле, может быть, больше, но насколько
больше — я не могу сказать.
С.Э. Я стал приводить ваши данные в Фейсбуке,
там есть люди, которые тоже занимаются этой темой, демографией.
Один из них сказал, что вы отталкиваетесь от перестроечных данных,
от 1989 г., когда была антиалкогольная кампания и смертность упала.
И если бы вы взяли более ранний период, то смертность была бы меньше.
Это так?
С.М. Это не совсем правда. В 1989 г.
антиалкогольная кампания уже заканчивалась. Смертность в последние
не горбачевские годы составляла в 1984 г. — 1651 тыс., в 1985 г.
— 1622 тыс., а в 1988 г. она была 1583 тыс., в 1989 г. — 1656 тыс.
То есть смертность в 1989 г. была выше, чем в любом перестроечном
году. Я использую таблицы смертности, составленные Е. Андреевым.
И показывал ему свои расчеты. Он с ними соглашается.
С.Э. То есть расчет ведется от данных смертности,
предшествующих антиалкогольной кампании.
С.М. Я делал расчет минимальный, обходя
эту антиалкогольную кампанию. Но я знаю людей, которые считали по
всему горбачевскому времени. То есть я брал минимальный уровень.
С.Э. Но есть такой момент: высокая смертность
продолжалась и после 2000 г., когда пришел Путин. Только с 2006
г. она начала падать…
С.М. Она начала падать довольно быстро.
Не то что Путин пришел, и она сразу начала падать, а после какого-то
времени, от каких-то мер, которые стали внедряться. Это и меры,
связанные с пенсионерами, увеличение дополнительных выплат для них,
и другие меры по перераспределению ресурсов страны. Все это через
несколько лет начало давать результаты. Я, конечно, не скажу, что
смертность упала сильно, но все-таки упала. Продолжительность жизни
не сильно, но все-таки растет.
С.Э. Правда, что в 2013 г. продолжительность
жизни достигла уровня советского периода — 69 лет?
С.М. Да, она начинает уже немного превосходить
советский уровень. Это неплохо в целом, но мир за эти 20 лет, которые
мы потеряли, очень сильно ушел вперед — Россию обгоняют и Китай,
и Бразилия, и Мексика. Эта потеря в двадцать лет не прошла даром,
мир сделал рывок, а мы удержались на том же уровне.
С.Э. Когда начинаешь говорить, что
в ельцинское время была демографическая катастрофа, вызванная, прежде
всего, реформами, то многие отвечают: это ведь нельзя сопоставить
с коллективизацией, с Большим террором. Чем вы можете объяснить
четвертую демографическую катастрофу? Да, народ бросили на произвол
судьбы. Но почему люди стали массово вымирать? Почему они оказались
неприспособленны к трудностям?
С.М. Люди оказались не готовы к ухудшению
жизни, утрате стабильности. А в результате стрессы, алкоголь, угасание
людей раньше времени. Причем потери среди мужчин намного больше
женских. Если сравнивать с коллективизацией — конечно, это не таких
масштабов смертность. И тем не менее. Если взять Чечню — это 20–40
тыс. Преступность, рост убийств — тоже десятки тысяч. На уровне
действительных физических потерь речь идет о сотнях тысяч. Это тоже
большие потери. Про потери страны от эмиграции не говорю. Катастрофа
это или нет, но мне видится печальный факт. Мы видим, что весь мир
идет по другому пути: везде продолжительность жизни растет, а мы
гордимся, что мы остались за двадцать лет на том же уровне. Это
переход России к другой категории — экономически не развитых стран.
[1]Нужно было еще
в советское время в деталях разрабатывать проекты перехода к демократии
и рыночной экономике. Интервью с А.П. Бабенышевым (Июль 2017) //Историческая
экспертиза. 2021. № 1(20). С. 23-43. https://ac1e3a6f-914c-4de9-ab23-1dac1208aaf7.usrfiles.com/ugd/2fab34_6b2754c7238c42798617f8a5040e7894.pdf
[2] Максудов С. Победа над
деревней. Демографические потери коллективизации. М.: Мысль, 2019
|