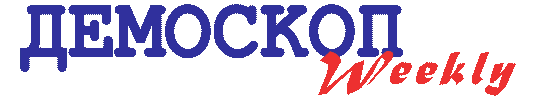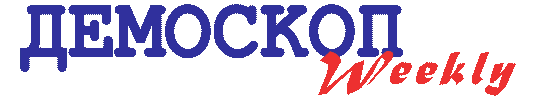|
|
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Алексей Левинсон и Павел Нерлер о Сергее
Максудове
Известный социолог, руководитель отдела социокультурных
исследований Левада-центра Алексей Левинсон знаком с Сергеем Максудовым
очень давно, помнит о том, как начинались его первые исследования.
Он рассказывает об этом в интервью Любови БОРУСЯК.
Любовь Борусяк (ЛБ): Сергею
Максудову исполнилось 80 лет, он давно живет в Америке, но все его
научные и творческие интересы неизменно связаны с Россией. Мне кажется,
что он известен у нас меньше, чем того заслуживает. Как он, геолог
по образованию, пришел к тому, что стал авторитетным исследователем
демографических потерь России и СССР в ХХ веке?
Алексей Левинсон (АЛ): Человека,
который работает под псевдонимом Сергей Максудов, я знаю, как Алика
Бабенышева, и судьба сводила меня с ним несколько раз и в очень
разные эпохи. Точнее сказать, несколько раз наши жизненные траектории
так или иначе соприкасались или пересекались. Я начну не с самого
начала, а с того, что в 2004 году я читал публичную лекцию про трех
ученых, которых я назвал героями социологии. Это были три человека,
которые в одиночку взялись делать то, что в социологии обычно делает
большой коллектив, институция. Я имею в виду полевую социологию:
сбор и анализ данных. Так вот, Сергей Максудов был одним из них,
и в этом смысле он мой герой.
Ну а теперь начну по порядку. Мне кажется, что я сначала
услышал о нем, и только потом познакомился с ним. Я думаю, что я
мог услышать об Алике в конце 1950-х – начале 1960-х гг. из разговоров
моих родителей и их друзей. Это был круг, в котором заметными или
самыми заметными были Лев Копелев и его жена Рая Орлова, а мать
Алика - Сарра Бабенышева была их приятельницей. Наверно, в наш дом
она пришла со стороны Раисы Давыдовны Орловой. Признаюсь, я с ней
виделся всего один или два раза, и никакого впечатления, кроме того,
что это очень приятная женщина, у меня не было. А вот разговоры
были о том, что ее сын Алик занялся удивительной и имеющей элементы
героической, деятельностью, о которой потом более подробно я узнал
от него самого. Этот молодой человек, и это очень важно, принадлежал
к московской интеллигентской семье. Если я не ошибаюсь, они жили
в писательском доме у метро Аэропорт в Москве. А важно это потому,
что дает представление, каким было ближайшее окружение этой семьи.
Я не знаю, были ли в их семье пострадавшие от репрессий.
ЛБ: Были, два дяди со стороны матери
Александра Петровича.
АЛ: Значит, были и в семье, но в ближайшем
окружении этой семьи пострадавших от репрессий было много. Я даже
думаю, что в это время (конец 1950-х годов), время после ХХ съезда
КПСС, после разоблачения культа Сталина, после того, как начались
массовые реабилитации, могло возникнуть ощущение, что людей, которые
пострадали, много или очень много. Я не знаю, как это было непосредственно
в семье Бабенышевых, но по другим примерам мне известно, что до
какого-то времени существовала такая всеобщая тайна по поводу репрессий.
Если говорить об обществе в целом, об этом было не принято упоминать.
Мы знаем из многих источников, что очень многие семьи скрывали это
от детей, скрывали от инстанций, скрывали от окружающих. Говорили,
что папа уехал, дедушка умер и т.д. Я говорю не конкретно о нем,
я говорю, что это было распространено очень широко, а ХХ съезд и
наступившая Оттепель открыли эту тайну, об этом стало можно говорить.
И возник вопрос, а сколько их было, каковы масштабы репрессий, сколько
людей погибло, сколько людей сидело? На этот вопрос ответа не было
или были разные ответы, и ни один из них нельзя было считать аутентичным,
точным. До сих пор в дискуссиях на сей предмет дается очень большой
размах оценок, а на тот момент это было еще совсем неизвестно, просто
не установлено.
ЛБ: В то время давали цифры огромные,
просто невероятные – 25 млн., 30 млн., ссылаясь на Александра Солженицына,
Роберта Конквеста. Его же данным, намного более скромным, верить
не хотели, отказывались верить.
АЛ: В тот период, о котором я говорю,
до этих данных было еще далеко. Пока еще не этот этап жизни Максудова
обсуждается. Так вот этот молодой человек из разговоров с людьми
из «аэропортовского» окружения понял, что вот в этой семье были
репрессированные, и в этой, и в той. И он решил, что если систематическим
образом опрашивать людей вокруг, то в общем и целом можно составить
мартиролог и определить составить общее число подвергшихся репрессиям.
ЛБ: А он делал и собирался это делать
в Москве или по всей стране? Потому что только московские данные
не позволили бы получить цифру потерь. Не говоря о том, что круг
у него был в основном интеллигентский.
АЛ: Я думаю, что он имел в виду сделать
это, конечно, по всей стране, потому что прекрасно понимал, что
репрессии было явлением не московскими, а общесоюзными.
ЛБ: А как он собирался это сделать?
АЛ: Мне эти вопросы задавать не надо,
потому что мне кажется, что он и сам не задавал их себе в тот момент.
Он решил, что если идти таким путем, то можно, в конечном счете,
составить полный список репрессированных. И когда я рассказывал
об этом на публичной лекции 14 лет назад, да и сейчас, я совершенно
не собирался и не собираюсь иронизировать и удивляться наивности
этого человека. Да, с точки зрения сбора статистической информации,
это наивный ход, обреченный на неудачу. И мы это знаем, и сам он
это отлично теперь знает, причем наверно лучше нас, а не хуже, но
он начал это делать.
ЛБ: И сколько таких интервью он провел?
АЛ: Этого я не знаю, расскажу, как
он это делал. Он приходил к людям, знакомым, прежде всего, и к знакомым
своих знакомых, и к знакомым своей матери.
ЛБ: Метод «снежного кома».
АЛ: Да. Он приходил к этим людям, а
он разработал методику опроса, и просил рассказать биографии всех
людей из их семьи, о ком они знают, не уточняя, что ему надо знать
именно о тех, кто был репрессирован или погиб от репрессий. В том
числе он просил указать дату смерти, а если возможно причину и место
смерти человека.
ЛБ: Сколько времени это продолжалось?
АЛ: Я думаю, что он этим занимался
два-три года, не меньше, и хотя я не знаю, сколько всего людей он
опросил, но он собрал значительный материал. Из этого материала
нельзя было сделать те выводы, которые он намеревался сделать сначала,
и я думаю, что в какой-то момент он понял, что это сделать невозможно.
Впрочем, похоже, понял он это не так уж скоро, потому что он еще
продолжал попытки действовать примерно тем же способом и значительно
позже, я об этом тоже расскажу, но не сейчас. Что очень важно, преследуя,
как мы теперь понимаем недостижимую цель, Алик вышел на интересные
вещи, которые можно считать открытиями или хотя бы очень интересными
эмпирическими фактами. Ему удалось выяснить, сколько таких life
stories, биографий знает отдельный человек. Я не помню,
какой была средняя цифра, но я помню размах – от шести до шестидесяти.
ЛБ: Это всех людей, не только репрессированных?
АЛ: Да, и это означает, что существуют
люди, которые знают только самых близких родственников, а есть те,
у кого в памяти большое число людей.
ЛБ: А это люди близкие или вообще знакомые?
АЛ: И родственники, и знакомые. Понятно,
что метод «снежного кома» выйти за пределы какого-то своего круга
не дает, потому что он основан на существующих социальных связях.
ЛБ: Но тогда наверняка были пересечения,
ведь этот круг во многом общий.
АЛ: Конечно, были пересечения, но ему
это никак не мешало.
ЛБ: А он и имена людей просил назвать?
АЛ: Я думаю, что да, ведь ему нужно
было как-то обозначить, что речь идет про одного брата или другого,
их же надо было как-то различить. Я не думаю, что люди держали в
тайне эти имена, что это была конфиденциальная информация. Вот само
занятие этим делом, как мне кажется, должно было быть конфиденциальным,
поскольку до того времени, когда КГБ начал быть заинтересован поиском
репрессированных и сбором документов для их реабилитации, было далеко,
погода еще была совсем другая.
Мне кажется, он выявил, установил очень интересный факт,
касающийся социального кругозора людей, и из этого можно было сделать
ряд интересных выводов, у кого эти круги шире, от чего это зависит:
от возраста, от национальной принадлежности, от пола и пр. Я не
знаю, что в этом смысле Алик сделал с собранным им материалом, но
представляю, что я бы с ним сделал.
Я прослышал про его занятия и помню, что когда о них
рассказывали, то рассказывали, как о деятельности примерно такой
же, как участие в распространении самиздата. В этом кругу само его
намерение установить число репрессированных, конечно, приветствовали,
но что это занятие может быть опасным, понимали. Такое занятие,
несомненно, требовало от человека немалой отваги. Даже если ни на
какую статью Уголовного кодекса это не тянуло, это было тайной существовавшего
режима. Даже после всех хрущевских разоблачений это оставалось тайной
режима, в каком-то смысле это была смерть Кощея в яйце. По крайней
мере, тогда так казалось. Через много-много лет придет эпоха гласности,
которая вся была построена на этом, и Алик, как и многие люди эпохи
оттепели, шел той дорогой, которой потом прошли гораздо более многочисленные
группы и прошли гораздо дальше, но идея была именно эта: суть господства
строя, режима, не имеющего моральных прав на существование, в том,
что он покоится на тайне, на сокрытии правды. И если эту правду
открыть, то этому режиму наступит конец. Не знаю, насколько Алик
ясно формулировал для себя эту идею, но я в его действиях читаю
именно ее. Отчасти это была идея многих людей периода оттепели,
на этом основаны расследования Солженицына, и на самом деле это
сыграло немалую роль в крушении режима, ведь на этом построена и
идея гласности. Другое дело, что эта идея оказалась ложной, как
теперь мы видим, не в этом соль, а в более серьезных социально-структурных
обстоятельствах, но это уже совершенно другой вопрос.
Возвращаясь к этой истории, я слышал об этой деятельности
Алика в конце 1950-х – начале 1960-х годов, а потом был очень длинный
период, когда я ничего о нем не слышал. Это был круг моих родителей,
а у меня появился свой круг. В середине 1960-х годов я познакомился
с Юрием Александровичем Левадой и вошел в круг людей, который был
рядом с ним. Мы работали в Институте конкретных социальных исследований,
а потом институт был разогнан, был 15-летний перерыв, когда мы поддерживали
только неформальные связи, но в 1987-88 годах часть людей из круга
Левады воссоединилась вокруг него же, когда его пригласили работать
в только что созданный Всесоюзный центр изучения общественного мнения.
И вскоре после того, как начал работать этот Центр, к нам пришел
человек. Не могу сказать, что я его узнал, но через некоторое время
мы обнаружили, что мы знакомы. Этим человеком был Сергей Максудов,
который приехал к нам как сотрудник Колумбийского, кажется, университета...
ЛБ: Скорее, Гарварда.
АЛ: Может быть, Гарварда, с грантом
этого университета на продолжение работ того же рода, чем он занимался
в период нашего знакомства. У него были какие-то специально поставленные
задачи, и он заказал нам количественное исследование, а ВЦИОМ проводил
исследования на коммерческой основе.
ЛБ: Какое это было исследование?
АЛ: Сам я количественными исследованиями
не занимаюсь, но, если я не ошибаюсь, цели были те же самые – выяснить,
были ли в семье репрессированные. Но на этот раз отличие было принципиальное
– мы могли провести общесоюзный, а если это было после 1991 года,
то общероссийский опрос. Скорее всего, еще общесоюзный. И при этом
была возможность, поскольку выборка была репрезентативная, получить
оценку, о скольких людях в обществе знают, как о погибших от репрессий.
Я не помню, какие получились результаты, но их можно найти в наших
архивах или в каких-то работах Алика.
Я помню, что он продолжал использовать и другие очень
оригинальные приемы исследований. Как-то, когда он приехал сюда
из Америки, он говорил, что собирается поехать на Украину, что он
там ходит по кладбищам. Если не ошибаюсь, по датам смерти людей
на надгробных досках он собирался посчитать потери от Голодомора,
число жертв. Этой темой он занимался и раньше, но он применял или
собирался применить такой необычный прием.
ЛБ: Это был какой-то локальный проект?
АЛ: Не знаю, он говорил, что поедет
на Украину. Вряд ли он собирался посетить там все кладбища. Может
быть, он делал это в каком-то одном регионе.
Я бы хотел подчеркнуть, что первый его замысел, о методических
дефектах которого уже было сказано, был отважным предприятием, даже
трижды отважным. Во-первых, затрагивая политически опасную тему,
можно опасаться прямых репрессий: его могли спросить, куда полез
и «отрубить руки» проекту. Во-вторых, можно не иметь конкретных
опасений, но понимать, что ты занимаешься тем, что точно неугодно
власти. Для очень многих этого достаточно, чтобы не делать ничего.
На этом страхе построено очень многое в тоталитарных обществах.
Когда внутренний умысел власти понятен, то делать что-то против
этого умысла, даже если ты считаешь его несостоятельным, очень тяжело.
На это уже нужно мужество, и этого мужества не хватало миллионам,
что в гитлеровской Германии, что в сталинском Советском Союзе, а
хватало его единицам, в лучшем случае, тысячам, но не большинству.
Так что это вторая составляющая героизма Максудова. И наконец, быть
одиночкой, делать в одиночку то, что обычно делают большими коллективами,
институтами, с чего я начинал, это еще один признак героического
деяния. Ты сам себе придумал дело, ты сам его делаешь, ты сам оцениваешь
насколько ты преуспел или нет. Отсутствие внешней мотивации, внешней
поддержки и защиты – это тоже признаки героического деяния. То,
что он делал поначалу, было, конечно, одобряемым в узком круге близких
друзей. Да, конечно, юноша что-то делает в порядке противостояния
сталинскому тоталитарному режиму. Но когда он получил свои данные,
мог и хотел предъявить их публике, обосновать статистическим образом,
что получилось, насколько я знаю и как ты сказала, существенно меньше,
чем к тому времени принято было считать.
ЛБ: Что прямых потерь был примерно
миллион человек, а не 25 миллионов.
АЛ: И вот тогда он оказался в первый
и точно не в последний раз тем, кто не собирается, что называется,
петь в хоре. Знать, сколько жертв было у этого режима, это было
желание многих. А вот дальше сказать, что их не столько, сколько
вы думаете, не больше, а намного меньше, означало выступить если
не апологетом режима, то, по крайней мере, человеком, который посягает
на очень важное. Тут ведь можно было говорить, что угодно: что он
не отдает должное миллионам жертв или помогает тем, кто хочет их
скрыть. Я не хочу выдумывать, какие ему могли предъявить претензии,
наверняка их предъявляли. И это третье, почему я считаю его человеком
мужественным и отважным.
Я в этом уверен, хотя у меня нет собственного мнения,
правильные он получил результаты или нет, я этим никогда не занимался.
Хотя я гражданин Российской Федерации и принадлежу к интеллигентным
кругам, но, если меня спросить, сколько же в итоге пострадало, я
не могу дать ответ. Мне приходилось говорить с людьми, работающими
в «Мемориале» и кажется их оценки были близки к тем, что сделал
Алик.
ЛБ: Уже первые результаты Максудова
оказались достаточно точными. Но и потом он всю жизнь занимался
потерями.
АЛ: Да, в частности, количеством людей,
погибших в Чеченской кампании.
ЛБ: Разными потерями он занимался,
еще потерями от коллективизации и от Голодомора, о чем мы упоминали,
то есть он действительно всю жизнь занимался и занимается расчетом
потерь.
АЛ: В этом смысле он выбрал себе род
занятий от начала до конца печальный, в каком-то смысле это угрюмое
занятие, повод для радости найти в такой работе очень тяжело. Но
он считает это важным и много лет этим занимается.
Наши биографии пересеклись и еще в одном месте. Когда
я учился в университете, у меня появилась группа друзей не с моего
факультета, а с филологического факультета МГУ. И очень близкий
мне человек, Сергей Шведов познакомил меня со своей однокурсницей
и подругой Наташей Покровской. Не могу сказать, что мы с ней близко
дружили, но испытывали друг к другу большую симпатию. А потом Наташа
со своим мужем и сыном уехали в Америку. Это я помню очень хорошо,
я ее провожал. До меня потом доносились слухи, что Наташина семейная
ситуация изменилась, что она разошлась со своим мужем, а больше
я ничего не знал. А когда Алик Бабёнышев приехал в Москву в очередной
раз, он как о само собой разумеющемся сказал, что они с Наташкой
хотели бы меня видеть. И тут я обнаружил, что его жена, а к тому
времени они уже довольно долго прожили вместе, та самая Наташа Покровская,
с которой мы не виделись много лет. И теперь, когда они приезжают
в Москву, я с большим удовольствием вижусь с ними обоими. Вот так
сошлись биографические линии.
Я почти закончил свою историю, и я хочу сказать, что
меня несколько раз, уезжая, Алик просил о каких-то поручениях по
установлению каких-то связей или договоренностей об издании его
работ. Или я не очень подходящая для этого фигура, или, что мне
кажется более вероятным, дело, которым он занимался и занимается,
увлекает здесь немногих. Широкой поддержки его деятельность не находит,
но он находит поддержку, его книги изданы, по-моему.
ЛБ: Да, его книги выходят. Сейчас можно
купить две книги, еще одна готовится к печати.
АЛ: Несомненно, есть люди и институции,
которые его поддержали, но в целом деятельность по установлению
исторической истины, видимо, оказывается не очень востребованной.
Из опросов, которые проводил Левада-центр, я знаю, что, когда спрашивают:
«Нужно ли изучать прошлое?», «Нужно ли восстанавливать историческую
истину?», большинство россиян отвечает «Нужно». А когда задается
вопрос: «Нужно ли публично обсуждать тяжелые факты прошлого?», отвечают
«Нет, не нужно». Работа Алика Бабёнышева аккурат попадает в эту
развилку. Никто не скажет: «Не делай этого!», но вот ты сделал.
Ну и хорошо, точка. В этом смысле он выбрал, в последний раз произнесу
это слово, героический путь. Я ему свидетельствую свое почтение
и поздравляю с юбилеем!
ЛБ: Спасибо!
ОТ ДВУХ ДО ВОСЬМИДЕСЯТИ
Павел НЕРЛЕР
Геология геологией, история историей, демография демографией, но
формула «Бабенышев-Максудов» этим не исчерпывается. Литература –
не менее важный ее ингредиент. Чему свидетельством (доказывать тут
нечего!) служит вышедшая в 2017 книга Сергея Максудова – «Подводя
итоги… Сборник статей о литературе и литераторах: Булгаков, Бродский,
Мандельштам и другие».

Публиковаться Алик Бабенышев начал в от-двух-до-пяти-летнем возрасте.
Несколько его «перлов» Корней Чуковский взял в свою бессмертную
антологию. Про Горького ребенок сказанул так: «Почему у него такая
невкусная фамилия? Он плохой?». А вот вам (привет, Максудов!) и
«демографический» перл: «Мама, пей простоквашу, и будешь жить дольше,
а я не буду, и умрем вместе».
Не забудем, что фамилия Максудов – говорящая, булгаковская. Булгаков,
наряду с Мандельштамом и Бродским, один из главных персонажей этой
книги (есть там еще статьи о Синявском, Солженицыне, Максимове,
Алексиевич и других).
Но в центре все же стоит Мандельштам, стихам которого в максудовском
сборнике посвящены три статьи: одна – армянскому циклу, другая –
цветаевскому, а третья – стихотворению «Мастерица виноватых взоров…».
У всех трех статей прослеживается общая генетическая черта. Автор
пишет не напрямую о своем предмете, а опосредованно – пропуская
свои мысли через препятствие, или, если хотите, фильтр, роль которого
исполняет чужой текст – статья специалиста, всегда авторитетного
(в первом случае это Ирина Семенко, во втором – Кирилл Тарановский,
в третьем - Софья Полякова). Именно на их тексты и реагирует Максудов,
бросаясь на них, как маленький фехтовальщик «за честь поэзии», как
ее защитник от диктата или неточностей авторитетов.
Приведу один лишь пример – защиту Мандельштама и Цветаевой от ригориста
Тарановского, написавшего: «Марина Цветаева утверждает в своих
воспоминаниях «История одного посвящения», что стихотворение написано
ей в 1916 году, когда она Мандельштаму «дарила Москву». Видимо,
Цветаева намекает на то, что в нем как-то отразились их совместные
поездки по Москве. Такой биографический факт может объяснить возникновение
стихотворения, но ни к сюжету, ни к его поэтической посылке не имеет
прямого отношения… Влюбленность Мандельштама в Цветаеву
не имеет никакой связи с основной посылкой стихотворения, то есть
с темой, выдвинутой в третьей строфе. Колебание между католичеством
и православием было характерно для первого самозванца, оно же было
и личной проблемой Мандельштама. Как известно, он формально перешел
в епископально-методистскую веру и крестился в Выборге в мае 1911
г., чтобы получить возможность поступить в Петербургский университет
осенью того же года. В 1913 и 1914 гг. он сильно тяготел к католичеству
под влиянием католического универсализма Чаадаева... Три
мандельштамовские встречи — это, без сомнения, Рим, Византия (Константинополь)
и Москва».
Слово Максудову: «Можно лишь переадресовать слова американского
профессора ему самому. Философско-религиозные построения, столь
важные для историков, «ни к сюжету, ни к его поэтической посылке
не имеют прямого отношения». И очень маловероятно, что по просьбе
Тарановского Бог благословил так и не состоявшуюся встречу Мандельштама
с Константинополем или конкурентную борьбу православия с католицизмом
в голове и сердце поэта. Все эти домыслы возникают из фразы, завершающей
третью строфу: «четвертой не бывать, а Рим далече». Застрявшая в
головах ученых формула не позволяет им принять самую простую мысль
Мандельштама: «Три раза мы встречались, но четвертая встреча не
состоится». И никто бы не стал рассуждать о религиозных конфессиях
и имперских столицах, если бы Мандельштам не воспользовался языковой
конструкцией старца Филофея, которая в головах ученых затмевает
свет реально происходившего».
Защитил? – Защитил!
A propos Горький. Есть в максудовско-бабенышевской формуле
еще и такой элемент как храбрость, личное мужество, императив свободы
и презумпция достоинства: не каждому дано набраться смелости и поехать
к Сахарову в Горький и лезть к нему на глазах оторопевших кагэбэшников
в окно! Или поехать с большим геологическим рюкзаком (абалаковским?
яровским?) к Бродскому в Норинскую и читать ему там стихи Юрия Григорьева
про Цезаря и империю? Собственно говоря, мужество и храбрость заключались
именно в том, что их как бы и не было - поступки были естественными
и органичными, безо всякого внутреннего нажима и преодоления.
А история с книгой "Ликейский свет в исчезнувшей
стране" Юрия Григорьева, библиотекаря Свято-Духова монастыря
в Вильнюсе, вышедшей в 2013 году! Много ли найдется в нынешнем мире
романтиков, способных бескорыстно собирать и выискивать стихи почти
неизвестного, но хорошего, как ему кажется, поэта, однажды и навсегда
чем-то его поразившие? Пока не наберется на книжку, а когда наберется
- издать ее, не спросясь, после чего преподнести ее, через третьи
руки, автору, прячущемуся от публичности за монастырскими стенами?!..
В моих глазах - это подвиг…
|