|
|
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Молодые ученые об актуальных проблемах
демографической науки Заседание Демографической секции Центрального
дома ученых РАН
23 мая 2019 года состоялось очередное и последнее заседание
Демографической секции Московского Дома Ученых сезона 2018-2019
гг., на котором, как уже стало традицией, выступали молодые ученые-демографы.
Заседание открыл Председатель Демографической секции
В.В. Елизаров и представил выступающих: Елену Папанову, младшего
научного сотрудника Международной лаборатории исследований и здоровья
НИУ ВШЭ и Нелли Смулянскую, аспиранта кафедры народонаселения экономического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.
 Первой
с докладом на тему "Особенности смертности населения Москвы:
наблюдаемая динамика, компоненты снижения и качество данных"
выступила Елена Папанова. Первой
с докладом на тему "Особенности смертности населения Москвы:
наблюдаемая динамика, компоненты снижения и качество данных"
выступила Елена Папанова.
В начале своего выступления она отметила, что в основу
сегодняшнего доклада положены результаты совместной работы с В.М. Школьниковым
и С.А. Тимониным, которые были представлены на ХХ Апрельской
конференции НИУ ВШЭ в апреле 2019 г. Предпосылками для данного исследования
послужило то, что в 1990-х годах преимущество Москвы исчезло за
счет резкого роста смертности от внешних причин, большая доля умерших
от которых приходится на население с низким образованием и работников
физического труда. После 1994 года в качестве главного отличия динамики
смертности в Москве по сравнению с Россией в целом исследователи
отмечают отсутствие выраженного роста смертности, и более раннее
начало ее устойчивого снижения. В отношении более позднего периода
отмечается, прежде всего, заметное лидерство Москвы по сравнению
с другими регионами России. Вместе с тем, быстрое увеличение дифференциации
между Москвой и остальной страной вызывает некоторые сомнения относительно
правдоподобности роста продолжительности жизни в Москве, тем более
что рост межрегионального неравенства в смертности среди регионов
России обусловлен исключительно крайне низкой смертностью пожилого
населения в Москве и Санкт-Петербурге.
Далее докладчик остановилась на анализе динамики ожидаемой
продолжительности жизни при рождении, в интервале возрастов 15-59
лет и в возрасте 60 лет, а также разницы этих показателей между
Москвой и Россией (без Москвы) и отобранными странами: Чехией, Швецией,
Эстонией в 1989-2017 гг., вкладе возрастных групп в изменение ожидаемой
продолжительности жизни в Москве и в России.
Затем Е. Папанова сосредоточилась на анализе качества
данных и привела для сравнения возрастные коэффициенты смертности
в возрастах старше 60 и 70 лет, а также ожидаемую продолжительность
жизни в возрасте 80 лет в Москве, России, Венгрии, Чехии и Швеции.
Особое внимание было уделено сравнительному анализу ожидаемой продолжительности
жизни при рождении и при выходе на пенсию по данным статистики смертности
и оценке, рассчитанной по результатам коррекции смертности в возрастах
старше 80 лет.
В заключение было отмечено, что продолжительность жизни
в Москве до 1990-х годов отличалась от среднероссийского уровня
не так значительно, как в современный период. В середине 1990-х
гг. более быстрый, чем в остальных регионах России, компенсационный
рост продолжительности жизни, а также отсутствие роста смертности
в конце 1990-х гг. обеспечили формирование разрыва в продолжительности
жизни между Москвой и остальной Россией.
Существующий в настоящее время разрыв в продолжительности
жизни между Москвой и остальной Россией полностью сформировался
в середине 1990-х-середине2000-х гг., его уровень не изменился за
весь период устойчивого снижения смертности. Это было определено
более низкой смертностью в трудоспособном возрасте. На трудоспособный
возраст приходится основной прирост численности населения Москвы
в межпереписной период 1989-2002 гг., эта же группа населения определила
особенности динамики смертности в1990-2000-е гг. Может указывать
как на объективные факторы (селективный эффект "здорового мигранта",
более благоприятные условия жизни в регионах, притягивающих мигрантов),
так и на искажения вследствие неточной оценки численности этой возрастной
группы при переписи населения.
Со временем все большая часть различий в ОПЖ между Москвой
и Россией приходится на все более пожилой возраст. При этом смертность
в пожилом возрасте в Москве существенно занижена, особенно среди
мужчин. Наиболее вероятно причиной этого занижения является переоценка
численности пожилого населения Москвы по переписям населения 2002
и 2010 гг.
Основные структурные особенности смертности в Москве
(высокая доля БСК и ишемической болезни сердца, низкая доля смертей
от прочих БСК) остаются характерным для среднероссийских тенденций,
что связано с особенностями выбора первоначальной причины смерти,
т.е. качества данных.
Скорректированные оценки снижают уровень продолжительности
жизни при рождении в Москве, однако сохраняют явное преимущество
Москвы.
 Затем
с докладом на тему "Детерминанты рождаемости у женщин старших
возрастов" выступила Нелли Смулянская. Затем
с докладом на тему "Детерминанты рождаемости у женщин старших
возрастов" выступила Нелли Смулянская.
В начале своего выступления она отметила, что основное
внимание в докладе уделено выделению этапов постарения рождаемости,
классификации регионов России и анализу факторов принятия решения
о рождении ребенка. Работа основана на данных HFD, GGS, Росстата,
РПН-2017, МПН-2015, РоСБРиС и применении эконометрического моделирования,
кластеризация и демографического анализа.
Работа основана на анализе системы индикаторов календаря
рождений: суммарного коэффициента рождаемости; суммарного коэффициента
рождаемости первых детей; среднего возраста матери при рождении
1 ребенка; доли рождений после 35 лет; доли первых рождений среди
рождений после 35 лет; возрасте репродуктивной старости.
Далее докладчик остановилась на проблеме выделения этапов
постарения рождаемости и привела, составленную ей классификацию
(таб.1 и рис.1).
Таблица 1. Хронология прохождения этапов в разных странах
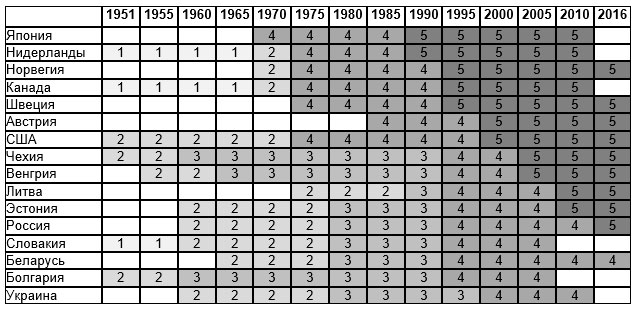
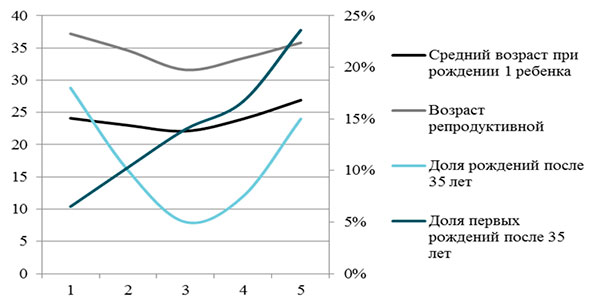
Доля рождений после 35 лет и первых рождений после 35 лет
- по вспомогательной оси.
Рисунок 1. Этапы постарения рождаемости
Анализ классификации стран по показателям постарения
рождаемости показал, что процесс постарения рождаемости в наиболее
развитых странах начался в 1970-е годы. В странах бывшего социалистического
блока данный процесс начался в 90-х и происходил существенно более
быстрыми темпами. При этом в самые кризисные 90-е годы в странах
этой группы наблюдался достаточно серьёзный обратный процесс временного
омоложения рождаемости именно за счет откладывания деторождений
женщинами старших возрастных групп.
На основе анализа следующих показателей: суммарного
коэффициента рождаемости; среднего возраста матери при рождении
1 ребенка; доли рождений после 35 лет; доли первых рождений среди
рождений после 35 лет и возраста репродуктивной старости были выделены
схожие этапы в динамике рождаемости в регионах России, которые позволили
распределить регионы в четыре кластера.
Далее Н. Смулянская остановилась на определении детерминант
рождаемости женщин старших возрастов, которое было основано на данных
"Generation&Gender Survey", в частности на опросе
женщин15-50 лет, которые по состоянию здоровья могут иметь детей
и принявшие участие в двух волнах исследования. Фильтрация наблюдений
с положительным ответом на вопрос "Вы тот же человек, который
отвечал на вопросы в первой волне?" (закрытый вопрос) значительно
сократила исследуемую выборку и в итоге она составила 8345 респондентов.
Результаты применения регрессионного анализа позволили
определить факторы откладывания деторождения для женщин, как имеющих
хотя бы одного ребенка, так для тех, у которых не было детей на
момент исследования (табл.2 и 3).
Таблица 2. Факторы принятие решения о деторождении.
Результаты моделирования для женщин, уже имеющих хотя бы одного
ребенка
|
Переменная
|
Моложе 35
|
Старше 35
|
|
Const
|
0,97
|
-14,3
|
|
Возраст
|
0,02
|
0,85
|
|
Возраст2
|
-0,00
|
-0,01
|
|
Количество детей
|
-1,11***
|
-0,85***
|
|
Количество детей2
|
0,19***
|
0,12***
|
|
Занятость
|
-1,66***
|
-2,32***
|
|
Образование
|
0,20***
|
0,14
|
|
Наличие партнера
|
-0,25*
|
-0,91***
|
|
Сельский тип места жительства
|
-0,12
|
0,39
|
|
Удовлетворенность жильем
|
-0,01
|
-0,06
|
|
Наличие помощи в уходе за детьми
|
0,03
|
0,37
|
|
Удовлетворенность помощью в уходе за ребенком
|
-0,15
|
0,09**
|
|
Удовлетворенность распределением домашних обязанностей
|
0
|
-0,01
|
|
Удовлетворенность взаимоотношениями с партнером
|
0,08**
|
0,11
|
|
Самооценка здоровья
|
-0,18**
|
-0,24
|
|
Количество рабочих часов в неделю
|
0,02***
|
0,02**
|
|
Удовлетворенность занятостью
|
0,10***
|
0,08
|
|
Религиозность
|
0,06*
|
0,06
|
|
Количество братьев и сестер
|
0,06
|
-0,01
|
|
Группа страны
|
1,11***
|
1,18***
|
|
Самооценка здоровья
|
-0,18**
|
-0,24
|
Таблица 3. Факторы принятие решения о деторождении.
Результаты моделирования для женщин, у которых не было
детей на момент исследования
|
Переменная
|
Моложе 35
|
Старше 35
|
|
Const
|
-7,37**
|
-45,5
|
|
Возраст
|
0,45*
|
2,41
|
|
Возраст2
|
-0,01**
|
-0,03
|
|
Количество детей
|
-0,01
|
0,42
|
|
Количество детей2
|
0,12
|
-0,49
|
|
Занятость
|
0,70**
|
-1,37
|
|
Образование
|
0,73***
|
0,48
|
|
Наличие партнера
|
-0,03
|
-0,19
|
|
Сельский тип места жительства
|
0,16***
|
0,05
|
|
Удовлетворенность жильем
|
0,12***
|
0,18
|
|
Наличие помощи в уходе за детьми
|
-0,23*
|
-0,24
|
|
Удовлетворенность помощью в уходе за ребенком
|
0
|
0
|
|
Удовлетворенность распределением домашних обязанностей
|
-0,05*
|
0,04
|
|
Удовлетворенность взаимоотношениями с партнером
|
0,06**
|
-0,22
|
|
Самооценка здоровья
|
0,09
|
0,23
|
|
Количество рабочих часов в неделю
|
0,15
|
-0,83
|
|
Удовлетворенность занятостью
|
-7,37**
|
-45,5
|
|
Религиозность
|
0,45*
|
2,41
|
|
Количество братьев и сестер
|
-0,01**
|
-0,03
|
|
Группа страны
|
-0,01
|
0,42
|
|
Самооценка здоровья
|
0,12
|
-0,49
|
Для России факторы откладывания деторождения были определены на
основе данных выборочного наблюдения репродуктивных планов населения,
проведенного Росстатом (табл.4)
Таблица 4. Факторы откладывания деторождения в России
| |
до
25
|
25-
29
|
30-
34
|
35-
39
|
40 и
старше
|
|
Необходимо найти более высоко оплачиваемую работу
|
84%
|
66%
|
52%
|
45%
|
50%
|
|
Пока не позволяют материальные возможности
|
80%
|
76%
|
68%
|
63%
|
67%
|
|
Жилищные трудности, отсутствие жилья.
|
70%
|
59%
|
50%
|
39%
|
40%
|
|
Хочется хоть какое-то время пожить для себя
|
70%
|
48%
|
33%
|
27%
|
35%
|
|
Отсутствие супруга(ги)/партнера(ши)
|
63%
|
44%
|
40%
|
41%
|
39%
|
|
Нужно закончить образование
|
62%
|
13%
|
8%
|
3%
|
5%
|
|
Не уверен(а) в прочности брака/партнерства
|
36%
|
36%
|
28%
|
22%
|
31%
|
|
Нет твердой уверенности в том, что мне/нам нужен еще ребенок
|
35%
|
28%
|
25%
|
24%
|
21%
|
|
Мне (супругу(е)/партнеру(ше)) трудно совмещать работу и уход
за ребенком
|
34%
|
41%
|
37%
|
30%
|
33%
|
|
Нет надежды на то, что родственники смогут оказывать регулярную
помощь в уходе за ребенком
|
34%
|
29%
|
26%
|
24%
|
14%
|
|
Муж (жена) пока хочет подождать с рождением ребенка
|
33%
|
40%
|
38%
|
32%
|
25%
|
|
Не хочу (супруг(а)/партнер(ша) не хочет) оставлять работу
хотя бы на время
|
31%
|
28%
|
24%
|
17%
|
27%
|
|
Трудно устроить ребенка в детский сад
|
27%
|
30%
|
35%
|
25%
|
27%
|
|
Там, где я живу, нет благоприятных условий, облегчающих уход
за ребенком
|
25%
|
22%
|
27%
|
19%
|
24%
|
|
Необходимость выплачивать кредиты,
|
21%
|
36%
|
39%
|
35%
|
24%
|
|
Младший ребенок пока слишком маленький
|
19%
|
36%
|
35%
|
23%
|
16%
|
|
Пока не позволяет состояние здоровья
|
10%
|
10%
|
13%
|
12%
|
12%
|
В заключительной части выступления Н. Смулянская отметила,
что страны проходят схожие этапы постарения рождаемости, при этом
в европейских постсоциалистических странах процесс постарения рождаемости
начался позже, но шел более интенсивно. В России можно выделить
несколько групп регионов, которые по своим демографическим показателям
находятся на разной стадии постарения рождаемости. При этом факторы
принятия демографических решений у женщин различаются в большей
степени в зависимости от очередности рождения ребенка (наличие первенца),
в меньшей степени от возраста женщины, а у бездетных женщин старшей
возрастной группы объективные факторы становятся незначимыми. Таким
образом поздние стадии постарения рождаемости должны сочетаться
с более дифференцированной демографической политикой с точки зрения
набора мер стимулирования рождаемости.
Полный текст презентации прилагается
в файле.
Доклады были выслушаны с большим интересом, вызвали
многочисленные вопросы и оживленную дискуссию, в которой выступили
В.Н. Архангельский, В.В. Елизаров, А. Ракша и другие.
|

