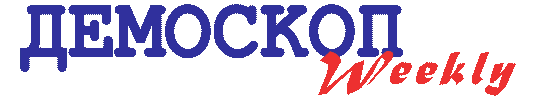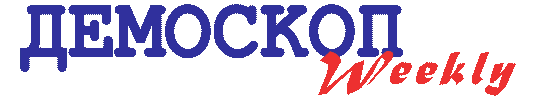|
|
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Интервью с юбиляром
ДЕМОСКОП: Александр Петрович, Институт
демографии НИУ ВШЭ, Демоскоп, журнал «Демографическое обозрение»,
с которыми Вы давно сотрудничаете, поздравляют вас с юбилеем! Надеемся,
что наше сотрудничество продолжится. А сейчас, в этом юбилейном
интервью, позвольте задать Вам несколько вопросов. Первый из них
– почему Вы в своих публикациях используете псевдоним Сергей Максудов,
отсылающий читателей к роману Михаила Булгакова?
Александр Бабёнышев: Действительно, свои работы
о потерях населения, теме, которой посвящена вся моя жизнь, так
же, как и публицистические статьи, я пишу под псевдонимом. Первая
моя статья по исторической демографии возникла из книги, которую
я закончил где-то в середине 1970-х годов. Я давал ее читать нескольким
знакомым диссидентам и Рой Александрович Медведев предложил сделать
из книги статью, для его самиздатского журнала «ХХ век». Я, чтобы
избежать возможных неприятностей, скрылся за псевдонимом. В это
время как раз был опубликован булгаковский «Театральный роман»,
и я использовал псевдоним героя моего любимого писателя. Тем самым
читателям был сделан определенный намек, что перед ним псевдоним,
а не подлинная фамилия автора. С тех пор я публиковал все свои научные
и публицистические работы как Максудов. Про имя я сначала не подумал,
и каждый издатель подбирал инициалы по своему вкусу (А., Н., К.).
В первой моей книге 1987 года «Неуслышанные голоса» я Сергей Максудов,
а во второй «Потери населения СССР», Максудов без имени. Где-то
в 90-х годах я сумел прекратить эту неразбериху и стал во всех случаях
Сергеем Максудовым.
ДЕМОСКОП: Давайте начнем сначала. Почему
вы стали заниматься исторической демографией и как вы пришли к теме,
которой занимаетесь столько десятилетий? С чего все начиналось?
АБ: Если начинать с начала,
то мой отец, пошел добровольцем на фронт и погиб, защищая наш родной
город Ростов-на-Дону. Я его не помню, но сохранилось его последнее
письмо (без марки, фронтовой треугольник), в котором он просит мать
рассказывать мне о нем и прививать мне любовь к истории. И действительно,
с раннего детства я хотел стать историком. Моя старшая сестра читала
мне вслух свой учебник по греческой и римской истории, и я прозвал
моего двоюродного брата, который медленно ел кашу, кунктатором,
то есть именем римского консула не спешившего дать сражение Ганнибалу.
Историком был мой отец, у моей матери был роман с историком-китаеведом,
который погиб в 1945 году в Китае. Мне от него осталось большое
наследство его трудов по истории Китая и Манчжурии, а также прекрасная
детская книжечка «Тайпины» – это было такое крестьянское, христианское,
а отчасти даже коммунистическое восстание в середине XIX века. Так
что интерес к истории у меня был связан с книгами, которые я читал.
На меня большое впечатление произвела книжка М. Ильина и Я. Сегала
«Как человек стал великаном», замечательный рассказ о греческих
ученых, и философах, о том, как люди пришли к научной деятельности.
В 14 лет я записался в детский зал Ленинской библиотеки,
собираясь изучать китайский язык, Дома у меня были первая часть
русско-китайского разговорника для солдат, небольшая брошюра, содержавшая
самые простые выражения. Я хотел посмотреть в библиотеке продолжение
этого пособия, но мне его не нашли.
ДЕМОСКОП: Вы москвич?
АБ: Вообще в Москве наша семья
(мама, бабушка сестра и я) оказалась случайно, проделав в годы войны
длинный эвакуационный путь. Из Ростова на Дону (моя родина) в Ставрополь
на Кавказе (родина моего отца), в Махачкалу, на пароходе через Каспийское
море в Красноводск, оттуда в Ташкент, в аул под Чимкентом, в Куйбышев
и в Ставрополь на Волге (теперь это город Тольятти) и, наконец,
в Москву, куда приехали в составе института военных переводчиков,
где моя мать преподавала русский язык и литературу. И во всем этом
многомесячном нелегком пути нам помогала добрая помощь простых людей.
Любимый рассказ моей матери был о том, как в Куйбышеве она весь
день бегала по городу в поисках жилья. Было воскресенье и все учреждения,
в том числе и военкомат, оказывавший нам обычно некоторую поддержку,
были закрыты. Усталая она села на тротуар и заплакала. Проходившая
мимо женщина расспросила ее и пустила переночевать нашу не маленькую,
грязную, завшивевшую еврейскую семью в свою единственную комнату,
где жила она со своими детьми.
ДЕМОСКОП: А школы, где вы
учились, дали вам хорошее образование, хорошую подготовку для занятий
историей, о чем вы мечтали с раннего детства?
АБ: Нет, мне не очень повезло
со школами. Мы снимали жилье в Подмосковье, на станции Лось, я ходил
в мужскую школу-семилетку. Одного историка, мы звали драконом, после
того как он рассказал нам о законах Дракона. Другой, бывший военный,
объясняя нам новый материал всегда заглядывал в учебник. Вот один
из запомнившихся его рассказов: «После студенческой забастовки жандарм
везет Владимира Ильича Ленина в тюрьму и говорит ему: ”Перед вами
стена, молодой человек, не можете же вы ее разбить лбом?!”» Тут
учитель закрыл книгу и сжал кулак: «А Ленин ему отвечает – “Нет
можем”!» Главный мой жизненный опыт тех лет продиктован детским
коллективом: «Отстаивать свою независимость необходимо решительно,
даже кулаками». Правда, правила боев были у нас довольно джентельменские:
«До первой крови», а кровь из носа у меня появлялась очень быстро.
С восьмого класса школа стала смешанной и нравы смягчились. В Москве,
где я учился в девятом и десятом, некоторые предметы преподавали,
как мне кажется, на высоком уровне, но я сам, был еще не готов к
серьезным занятиям. В основном я занимался самообразованием, читая
книги по интересующим меня вопросам.

ДЕМОСКОП:
Как получилось, что вы так рано определились со своими политическими
взглядами?
АБ: Действительно, любовь
к советской власти у меня пропала рано - в 1953 г., когда мне было
15 лет. До этого я был вполне советским подростком, что и показывает
моя первая научная, если так можно сказать, работа, сделанная в
седьмом классе. Я верил, что в СССР наступит коммунизм, и решил
подсчитать, когда это случится. В то время 1 апреля в СССР происходило
снижение цен и все газеты публиковали таблицы, показывающие на сколько
процентов товары и продукты становятся дешевле. Я взял газету и,
вооружившись таблицей умножения и счетами (других приспособлений
тогда не было), подсчитал, когда цены на выбранные мною товары при
ежегодном снижении такими же темпами приблизятся к нулю, то есть
сойдут до нескольких копеек. В результате минимальная цифра у меня
получилась 8 лет, а максимальная 15 лет. Коммунизм был действительно
не за горами. Разочарование наступило, когда сразу после смерти
Сталина снижение цен прекратилось и, напротив, началось постепенное
их повышение.
Другим серьезным разочарованием в советской власти стало
для меня освобождение вскоре после смерти Сталина «Врачей-убийц».
Оказалось, что большая группа известных врачей никого не убивали
и не отравляли, а были оклеветаны и посажены в тюрьму, а один даже
умер во время следствия. Возможность арестовать невиновных, клеветать
на них в газетах показывала, что не все в порядке с государственной
системой. А когда через несколько месяцев один из шести главных
руководителей страны Лаврентий Берия оказался развратником, вредителем
и иностранным шпионом, преступность государства и лживость советской
идеологии стали для меня совершенно очевидны. Говорили на эти темы
и в семье (моя мама и ее брат, мой дядя), никаких секретов от меня
не было, и к концу 1953 года по уровню антисоветскости я в силу
юношеского радикализма перегнал взрослых. А уж когда в 1955-1956
гг. люди стали возвращаться из лагерей, в том числе два моих дяди,
мне стало окончательно ясно, что такое советская власть.
Заканчивая школу в 1955 году, я, будучи антисоветчиком,
считал, что в Советском Союзе серьезно и честно заниматься историей
нельзя. Во многом это была довольно справедливая оценка, но я не
мог предположить, что очень скоро все может быстро изменяться. И
я решил стать геологом.
ДЕМОСКОП: Очень резкий переход.
Почему геологом? Мечты о путешествиях, романтика?
АБ: Отчасти да. Я мечтал о
путешествиях, моим любимым героем был Руаль Амудсен, и я, в подражание
ему, ходил зимой без пальто. Но главное, мне казалось, что геология
полезная для людей не идеологическая профессия.
Работая инженером геологом, я в то же время стал заниматься
современной советской историей.
ДЕМОСКОП: Прежде чем перейти
к своей историко-демографической деятельности, расскажите, пожалуйста,
о деятельности правозащитной.
АБ: Когда меня спрашивают,
как я к ней пришел, я отвечаю, что никак к ней не пришел. Моя мать
Сарра Эммануиловна Бабенышева работала в Литературном институте,
в Союзе писателей и принадлежала к достаточно либерально-демократическому
кругу московской интеллигенции. Так что по факту рождения и месту
существования я оказался включенным в эту среду.
Я не был правозащитником, так я называю людей, для которых
оппозиционная деятельность стала главным занятием в жизни. Себя
я считал в первую очередь историком-демографом, во вторую инженером
геологом и лишь в третью борцом за социальные и политические перемены
в советском обществе. Причем в последнем случае я сильно ограничивал
свою деятельность, так как твердо не хотел оказаться в лагере и
не хотел, чтобы кто-то из-за меня серьезно пострадал. Отмечу сразу,
что, по счастью, выполнить последнее условие мне удалось. Я для
себя решил делать лишь то, что я сам считаю нужным, не вступая ни
в какие группы и коллективы. Я побаивался диссидентов, как людей
не слишком ответственных, могущих подвести. Для таких опасений у
меня были довольно серьезные основания.
Расскажу коротко о том, что я собственно делал и сделал
по этой части.
Ездил в ссылку к Бродскому, отвез вещи, продукты, письма
и книги.
Участвовал в организации выступления Бродского на вечере
памяти Ахматовой в музее Пушкина.
Печатал на машинке третий день судебного заседания Синявского
и Даниэля. Текст записал Лев Копелев.
Широко распространял среди знакомых самиздат и тамиздат.
Иногда перепечатывал или переснимал на фотопленку. Треть статей
в журнале «Поиски и размышления» написаны мной.
Собирал деньги для помощи семьям политзаключенных.
Распространял фотографию Солженицына к его пятидесятилетию.
Причем я раздавал пленки людям, которые соглашались напечатать с
пленки сколько-нибудь фотографий, часть этих отпечатков получал
я и раздавал их всем желающим: сколько угодно экземпляров в одни
руки.
Таким же образом распространял фотографию Сахарова к
его шестидесятилетию.
Организовывал косвенный опрос отношения населения к
Сахарову.
Печатал и распространял текст листовки против вторжения.
в Чехословакию. Текст листовки написал Лев Копелев, я напечатал
на папиросной бумаге около тысячи экземпляров. В распространении
в общежитиях приняли участие три моих приятеля. Я лично поехал в
Ленинград вечерним поездом и прошел почти весь Невский проспект
от Московского вокзала до Дворцовой площади, опуская листовки во
все почтовые ящики, к которым был свободный доступ.
Насколько я могу судить, из тысячи разбросанных листовок
лишь одна вызвала заметную реакцию властей. Ее повесил в лифте высотного
здания МГУ мой хороший знакомый Алексей Семенов (сегодня дважды
академик (Российской академии и педагогической). Листовку отнесли
в партком, который пытался провести расследование, но ни к чему
не пришел.
Я не был диссидентом, но в силу случайных обстоятельств
тесно с ними соприкасался. Когда у меня родилась дочь, мы с женой
вступили в жилищный кооператив МГУ в Беляево Богородском. И так
случилось, что в том же доме только в другом подъезде поселилась
Арина Жолковская, вскоре ставшая женой известного правозащитника
Александра Гинзбурга. Это случайное квартирное соседство стало линией
постоянного взаимодействия либеральной писательской общественности
и правозащитников. Чего мне только не приходилось передавать: деньги
женам лагерников, едущих на свидание, носки, связанные женой Набокова,
предназначавшиеся не помню кому-то на севере (возможно Амальрику),
пальто и сапоги от Евтушенко, нацепив их для удобства транспортировки
на себя я сильно напугал знакомую Арины, жившую неподалеку. Из лагерей
и тюрем поступали просьбы о присылке книг, и я доставал (покупал
или выпрашивал) эти книги и отправлял их просителям. Но в политических
протестах диссидентов я не участвовал. Не ходил на демонстрации,
ездил к суду только один раз, когда в Калуге судили мужа моей соседки
А. Гинзбурга, да и письмо коллективное я только один раз подписал,
но это был совершенно особый случай. Однажды мне на работу вдруг
позвонила Лидия Корнеевна Чуковская, и сказала, что Солженицына
арестовали, и у него дома остались только женщины и дети и необходимо
немедленно туда поехать. Я подчинился. Но пока я добирался с улицы
Дмитрия Ульянова до Пушкинской площади, в квартире Солженицыных
собралось уже немало народу: сама Лидия Корнеевна, Наталия Горбаневская,
Сахаров, Шафаревич и еще человек пять–шесть диссидентов. Работал
телефон. В какой-то момент позвонили с канадской радиостанции, и
Сахаров надиктовал текст протеста против ареста Солженицына. И вот
тут, в такой компании отказаться подписать я не мог, да и не хотел,
нарушив правда свое принципиальное решение не участвовать в коллективных
действиях.
Я думаю, что моя идея возможности скрытого сопротивления
была не верна - «Кукиш в кармане». Когда люди действовали открыто,
их арестовывали, информация об этом попадала в средства информации
на Западе, возвращалась в СССР по западному радио и оказывала определенное
воздействие и на власти, и на население. Действия имели эффект лишь
когда человек был готов на жертву.
ДЕМОСКОП: А как вы познакомились
с Андреем Дмитриевичем?
АБ: Сахаров входил в тот круг,
которому принадлежала моя мать – либерально-литературный, если не
диссидентский, то близкий к диссидентскому. В первый раз я его увидел,
когда он приехал в Переделкино, где мы тогда жили, собирать подписи
под своим воззванием запретить смертную казнь. Моя мать подписала,
а я не стал, поскольку я за смертную казнь людей, преступно лишивших
человека жизни. Конечно, в случае, когда преступление абсолютно
точно доказано. К Сахарову в это время я не испытывал особого пиетета.
Из брошюры его «О стране и мире» я не узнал ничего нового, а в конвергенцию
с США я не верил. Участие в создании атомного оружия также в моих
глазах его не красило. Однако, когда он в своих работах несколько
раз называл неверные на мой взгляд цифры потерь, я попросил передать
ему мою рукопись. Он вернул ее с очень положительной рецензией,
принадлежавшей, вероятно, одному из его знакомых. Что сам Сахаров
говорил о моей работе не помню, но если бы были серьезные замечания,
я бы не забыл. Как-то раз я видел Сахарова на концерте Окуджавы.
В огромном заводском клубе. Сахарову не хватило места, и он сидел
недалеко от эстрады на ступеньках. Однажды три дня я и моя сестра
провели с Сахаровым, Боннэр и двумя десятками диссидентов у здания
суда в Калуге. Судили в очередной раз Александра Гинзбурга. Я, вопреки
моим принципам, считал, что должен пойти, поскольку мы с его женой
Ариной много лет были заняты общим делом и, можно сказать, дружили.
После этого я время от времени заходил к Сахарову и Боннэр на Садовую,
а когда его выслали в Горький, я хотел как-нибудь ему помочь. Первой
решила навестить Сахарова моя мать. Ее остановили где-то на подходе
к дому, объяснили, что посещение Сахарова запрещено и отвезли на
вокзал. Но привезенный ей польский вафельный тортик кегебешники
согласились передать и действительно передали. Я решил съездить
тоже, чтобы проверить другой вариант, узнать можно ли Сахарову посещать
людей в Горьком. Знакомый еврей-отказник предоставил мне на время
горьковскую квартиру, а Елена Георгиевна Боннэр передала Сахарову
приглашение в гости вечером на блины. Было время масленицы. В назначенное
время я вышел во двор и увидел, как несколько человек выталкивают
Сахарова на улицу. Мы поздоровались через спины его сопровождающих,
но подойти ближе к нему меня не пустили.
Тогда, проводив жену и дочь на поезд в Москву, я поехал
к дому в котором в квартире на первом этаже жил Сахаров, постучал
прутиком в стекло, Сахаров открыл окно и я в него залез. Несколько
часов мы с удовольствием проговорили. О людях в Москве, о происходящих
в мире событиях, о статье, над которой он работает. Он мне показывал
карикатуры в каком-то западном физическом журнале, но мне они показались
совершенно не смешными. Вышел я тем же способом, как и пришел: выпрыгнул
из окна и побежал к автобусной остановке. Сахаров рассказывал, что
за мной бежала целая толпа, но, как это ни удивительно, мне удалось
вскочить в отъезжавший автобус. Мои преследователи остановили первую
подвернувшуюся машину, остановили автобус и увезли меня в опорный
пункт милиции, расположенный рядом с домом Сахарова. Следующие три
часа начальники пункта, капитан милиции, и майор КГБ дозванивались
своему начальству. Но была суббота и никого не могли застать дома.
И все это время Сахаров стоял у опорного пункта и стучал в дверь.
К нему выходили, уговаривали уйти, пугали арестом за нарушение общественного
порядка, но он продолжал стучать. В конце концов, видимо, не выдержав
этого психологического давления меня отпустили. Я был очень благодарен
Андрею Дмитриевичу за его настойчивость, спасшую меня. Я думаю,
что это фантастическое упорство одна из важных черт сахаровского
характера.
Приближалось 60-летие Сахарова, и я с несколькими друзьями
Андрея Дмитриевича решили составить посвященный ему юбилейный сборник
статей. Активное участие в этой работе приняла и Елена Георгиевна.
Мы долго перебирали с ней фамилии людей, которые могли бы принять
участие в таком сборнике. Мне пришлось разговаривать с каждым из
потенциальных авторов. Назову лишь две фамилии: Шафаревич отказался,
ссылаясь на множество уважительных причин. Окуджаве мы решили не
предлагать, думая, что он мог согласиться, но это навлекло бы на
него дополнительные неприятности. Сборник в машинописном виде был
вручен Сахарову в день рождения. В дальнейшем он вышел на шести
европейских языках, а в 2011 году в РГГУ было напечатано третье
расширенное издание на русском языке. Сегодня я думаю, что если
бы не преждевременная смерть Сахарова, путь России к демократии
был бы намного более легким.
ДЕМОСКОП: Давайте перейдем
к главному вашему делу – оценкам потерь населения. Почему вы стали
ими заниматься, как это произошло? У вас вызвали сомнение цифры
Солженицына и Конквеста и вы решили их проверить?
АБ: Заниматься темой потерь
населения СССР я начал случайно, никак не отталкиваясь от каких-либо
цифр, которые тогда считали правильными. Хотя должен заметить, что
для понимания ошибочности цифр Конквеста и Солженицына требовался
только здравый смысл. Ведь если от репрессий погибли десятки миллионов
мужчин, то кто же сражался на фронтах Второй мировой войны?! Как
я уже говорил, после окончания института я попал на работу, на которой
у меня, как и у очень многих советских инженеров оставалось довольно
много свободного времени. А тут как раз приближалось 50-летие установления
советской власти. И к этому юбилею я решил написать книгу о результатах
победы Октябрьской революции.
ДЕМОСКОП: Глобальная задача.
Вы наверно с экономических результатов хотели начать?
АБ: Да, в первую очередь я,
конечно, думал об экономике. Я стал смотреть справочники, которые,
по счастью, стали публиковаться, сравнивал со старыми довоенными
справочниками. Сделал сначала довольно смешную работу, направленную
против оценок в процентах. В СССР тогда из года в год и от съезда
к съезду приводились проценты роста от неизвестного первоначального
количества. Я показал, что по росту в процентах СССР всегда обгонял
Америку по числу производимых автомобилей, все 50 лет советской
власти. Правда, число автомобилей у нас изначально было близко к
нулю.
Но я быстро понял, что начинать надо с населения, поскольку
его численность присутствует в любой экономической оценке. И, если
разбираться, что произошло со страной за 50 лет, важно понять, сколько
людей в ней жило, чем они занимались и сколько живет сейчас. Сколько
лет в среднем живет каждый человек. Увеличилось или уменьшилось
население. Самые важные показатели - это качество жизни и продолжительность
жизни человека. Я начал с населения и продолжаю заниматься его изучением
до сегодняшнего дня.
ДЕМОСКОП: Но вы же не были
демографом, пришлось учиться?
АБ: Хочу сказать несколько
слов в защиту дилетантизма. Дилетант может заниматься тем, что ему
интересно, и придумывает подходы и решения проблем не просто нестандартные,
а абсурдные, с точки зрения специалистов. Как правило, они ошибочны,
но в некоторых случаях могут оказаться полезными. С моей первой
работой подсчета военных потерь так и произошло.
Да, тогда я был дилетантом, учился, читая книжки, в
первую очередь работы Бориса Цезаревича Урланиса. В каких-то вопросах
я разобрался довольно быстро, но почувствовал некоторую уверенность
в себе как историке-демографе лет через семь. Для оценки потерь
населения СССР в годы Великой Отечественной войны я использовал
распространенную методику прогнозов изменения численности населения
в будущем. Только это будущее было в моем случае прошлым. Сравнивая
этот прогноз нормального движения населения с результатами переписи
в конце прогноза, я получаю оценку потерь за рассматриваемый период.
Но кроме того я решил подсчитать собственно военные,
армейские потери. Я использовал переписи 1939 и 1959 годов и исходил
из предположения, что в армию призывались все мужчины 17-55 лет,
проживающие на территории, контролируемой советской властью. Вступая
в бой, они попадали в плен (число пленных приблизительно известно
по немецким данным), становились ранеными или убитыми в соотношении
3 к одному. 70% раненых через несколько месяцев вновь возвращались
в строй. Когда моя статья оказалась в 1977 году в парижском журнале
Population, известный французский демограф Пресса отказался
ее публиковать, заявив, что по демографическим сведениям подсчитать
военные потери невозможно. С ним, очевидно, согласились бы многие
специалисты. Однако когда российскими военными историками была проделана
огромная работа по изучению архивных материалов, они получили результаты
очень близкие к моим. И сегодня, когда их обвиняют, что они неполно
учли численность погибших в боях, они порой отвечают, что большее
число убитых и соответственно намного большее число мобилизованных
было невозможно, их просто в стране не было.
Если вернуться к вопросу о потерях от репрессий, то
оценка потерь была получена сравнением нормального движения населения,
учтенного переписью 1926 года с численностью населения в 1939 году.
По расчету эти потери оказались равны 7 миллионам человек. В эту
цифру не входят потери детей, родившихся в 1926-1938 годах. Соотношение
потерь мужчин и женщин, данные о численности избирателей в 1934
и 1936 годах, а в дальнейшем и архивные данные о результатах переписи
1937 года позволили разделить эту цифру на потери коллективизации
(около 6 миллионов) и потери от репрессий 1936-1938 годов, приблизительно
миллион. Это неплохо согласуется с современными оценками.
На западе эта моя первая работа вышла по-французски
и по-английски.
Вскоре после приезда в Бостон я стал участником проекта
украинского института Гарварда «Голодомор».
ДЕМОСКОП. Итак, новый этап
вашей жизни – эмиграция. Почему вы уехали, как вам это удалось,
если советская эмиграция была в основном еврейской?
АБ: Я уехал из СССР и оказался на Западе
в начале 1981 года. К тому времени уже многие мои знакомые выехали
из страны, и фиктивный вызов из Израиля было получить не трудно.
Не следует забывать и то, что моя мать была еврейка. Выехать я решил
потому, что испугался. А почему испугался я еще не готов рассказать,
но причина была достаточно серьезной. Ареста я боялся потому, что
у меня была астма, и я мог жить, поскольку получал лекарства из-за
границы, знакомые присылали. Я боялся оказаться в карцере, потому
что у меня случались приступы астмы от холода. Кроме того, от меня
зависело несколько очень дорогих мне людей, и я не хотел рисковать
их здоровьем и жизнью.
Выезжая из страны, я не знал, чем мне придется заниматься,
но рассчитывал, что найду какой-нибудь способ зарабатывать деньги.
ДЕМОСКОП: Почему вы поехали
именно в Бостон?
АБ: В это время, после работы
над Сахаровским сборником у нас были очень тесные связи с семьей
Елены Георгиевны Боннэр. Нас принимали в Бостоне ее дети, и мы прожили
в их доме первые несколько месяцев. Но как только я нашел работу,
мы переехали. В Гарварде я стал научным сотрудником Русского института
и являюсь им до настоящего времени, только Русский институт называется
теперь Девис-центром. Кроме того, я стал сотрудником Украинского
института. Вместе с Джимом Мейсом, американцем индейского происхождения,
мы объезжали украинские общины Америки, записывая рассказы людей,
переживших голод 1933 года. Предполагалось, что книгу о Голодоморе
будет писать Роберт Конквест, живший в Калифорнии, я буду делать
расчеты потерь, а Джим Мейс продолжит собирать материалы. Однако,
когда Конквест приехал, мы с ним взаимно друг другу не понравились,
и он от моей помощи отказался. Тогда я решил писать свою книгу и
принял предложение поехать приглашенным профессором в Украинский
институт в университете города Эдмонтона в Канаде. В Эдмонтоне был
собран огромный материал, в том числе литература по проблемам коллективизации
и голода. Полтора года я жил при украинском монастыре, там во время
обеда читали религиозные лекции. В столовой на стене висел график
развития христианства. Мне запомнилось, что украинская ветка, отходящая
от дерева православия, была гораздо длиннее и толще русской. Я работал
очень напряженно и за полтора года написал книгу в 1250 страниц
о потерях от голодомора.

После этого встал вопрос, чем заниматься дальше, и я
принял предложение поехать в Германию – издавать там журнал «Страна
и мир». И я провел 1984 год в Мюнхене, работая редактором вместе
с Кронидом Любарским и Борисом Хазановым. Так случилось, что в эмиграции,
как и в России, у меня обычно было два занятия, одно дававшее мне
средство для существования, другое - для удовольствия и для души.
В эмиграции эта ситуация сохранилась, но занятия время от времени
менялись местами. Сначала деньги мне платили как историку-демографу,
затем занятием номер один стали журналистика и редактирование. Вернувшись
в Бостон, я стал работать издателем журнала «СССР: Внутренние противоречия»
и редактором в издательстве Валерия Чалидзе. Несколько раз я получал
гранты американских фондов, заинтересованных в изучении Советского
Союза. Но с 1987 года постоянным местом оплачиваемой работы стало
для меня преподавание на славянском факультете Гарвардского университета.
История-демография и публицистика стали для меня занятием для души.
ДЕМОСКОП: То есть начали работать
преподавателем русского языка, а не заниматься исследованиями?
АБ: И да, и нет. Это были
не просто занятия языком, это были студенты и аспиранты продвинутого
уровня – я разрабатывал курсы на русском языке по межнациональным
отношениям, политическим проблемам, в современной России, политической
лексике, по советской истории. Разрабатывал пособия по этим курсам.
Так я проработал 18 лет, потом вышел на пенсию. Но все это время
я продолжал заниматься своим основным делом – историей коллективизации
и оценками потерь. Я участвовал в международных конференциях, писал
статьи в научных и публицистических журналах.
ДЕМОСКОП: Но вы к тому времени
провели уже такое количество расчетов, что речь могла идти только
об уточнении результатов, каких-то глобальных изменений быть не
могло?
АБ: Хотя к тому времени мною
было сделано много подсчетов, произошли события, которые позволили
получить много нового материала для проблемы потерь от коллективизации.
Советский Союз исчез и открылись архивы. Я ездил в Москву, в Киев,
собирал документы. Я не могу сказать, что прежде был не прав, когда
писал о потерях, но новые источники открывают широкие возможности
для лучшего понимания советской истории, в том числе и размеров,
и характера потерь. Можно сказать, что я большую часть жизни был
занят одной и той же темой и в издательстве Высшей школы экономики
должна выйти, очень сильно переработанная моя книга, первый раз
готовившаяся к печати 30 лет назад. При этом я использовал совершенно
новую методику расчетов.
|

|
|
С Игорем Бирманом
|
При этом, когда я говорю, что занимался исторической демографией
всю жизнь, это не совсем точно. У меня был большой перерыв в занятиях
наукой, связанный с разочарованием в России, в политиках, в гражданах
страны, многих уважаемых мною людях. Это случилось в 1993 году после
расстрела Ельциным Белого дома. Для меня закрылся вопрос о возможном
возвращении. Я всегда считал важнейшей ценностью соблюдение прав
человека, среди которых на первом месте – свобода, на втором – демократия,
право людей решать, кто ими будет командовать. Когда Ельцин сначала
разрушил СССР, который был моей родиной, а потом расстрелял законный
парламент, и то, что люди, которых я уважал, восприняли это как
норму, стало для меня концом занятий, связанных с российской и советской
историей. Семь лет писал статьи по литературоведению, написал учебник
по исторической лексике «Русская история – революция сверху» и создал
затем диск для самостоятельной работы студентов с этим учебником.
Вернула меня к советской реальности Чечня. Меня очень задело, что
противники чеченской войны, московские интеллигенты не обращают
внимания на вытеснение русского населения Грозного и побережья Терека
с их родины. Я написал об этом письмо Мемориалу, но на него никак
не отреагировали. Тогда я решил, что должен сам написать об этом.
Сначала я думал, что надо писать о потерях в двух последних чеченских
войнах, но потом понял, что надо начинать с гораздо более раннего
времени, с XIX века, чтобы понять, каким на самом деле было население
Чечни, и как они жили до этого. Эта книга называется «Чеченцы и
русские: победы, поражения, потери», она вышла в 2010 году. Там
прослеживаются потери чеченцев во всех войнах за полтора века, а
также потери от депортации.
|

|
|
Презентация книги Сергея Максудова «Чеченцы и русские:
победы, поражения, потери». Июнь 2010 года
|
ДЕМОСКОП: Как у вас установились отношения
с российскими демографами?
АБ: Когда я закончил свою
первую книгу в Москве мои знакомые стали искать демографа, которому
можно было бы показать мою работу. И нашли. Им оказался Леонид Евсеевич
Дарский. Мы познакомились и стали друзьями. Он внимательно прочитал
мою книгу и сделал много полезных замечаний. Он предоставил мне
все материалы по интересующей меня теме, которые были в ЦСУ. К сожалению,
таких материалов было не так много, они были уничтожены во время
войны. После открытия архивов он присылал мне документы, которые
копировались для исследования Андреева, Дарского и Харьковой «Население
Советского Союза 1922-1991». Со многими демографами и историками
СССР мне удалось познакомиться на конференции в Канаде в 1991 году,
когда все они, съехались для обсуждения вопроса о том, насколько
наши представления изменились после открытия советских архивов.
После книги о Чечне, когда я снова стал ездить в Россию, я стал
посещать Институт демографии и встречаться с его сотрудниками. С
Анатолием Вишневским мы познакомились в Канаде, но в Москве встречаемся
редко. Он часто в отъезде, когда я приезжаю. Надеюсь, все-таки встретимся.
Особенно близкие отношения сложились у меня с Михаилом Денисенко.
Очень важные и теплые отношения связывали меня с историком
Виктором Петровичем Даниловым и группой его сослуживцев и учеников.
Их работы времен оттепели были для меня самым ценным источником
по истории коллективизации. Когда во время моего приезда в Москву
я познакомился с ними, Н.А. Ивницкий сказал мне, что он насчитал
в моей книге 150 ссылок на его труды. Это было действительно так,
я чувствовал в его материалах какую-то высокую достоверность. И
я оказался прав. Оказалось, что он в годы оттепели был допущен в
Президентский архив, где переписал большое количество документов.
Его записки были пересланы в спецчасть института истории, где он
вторично переписал их и без ссылок включал в свои публикации. Сейчас
мы переписываемся с учеником Данилова Виктором Викторовичем Кондрашиным.
ДЕМОСКОП: А что сейчас происходит?
Какие планы?
АБ: Жду, когда издательство
начнет работать над моей книгой «Победа над деревней». Собираюсь
выпустить второй том «Неуслышанные голоса. Документы Смоленского
архива», а первый вышел в США и недавно переиздан в Москве издательством
«Летний сад». Собираюсь вернуться к книге обо всех потерях России-СССР
в ХХ веке, включая Гражданскую войну, коллективизацию, террор и
потери Второй Мировой войны.
ДЕМОСКОП: Желаю, чтобы все
реализовалось! Спасибо!
|